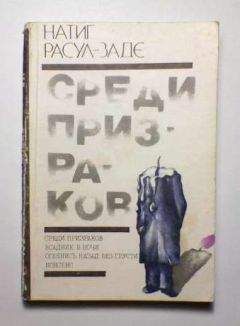Вадим Александровский - Записки лагерного врача
Но вот наконец и лагпункт — маленький, старенький и убогий. Вышки с «попками» по углам забора, вспаханная запретная полоса вокруг да какие-то домишки-развалюхи (неподалеку. Это — жилье вольных и казармы для охранников. Тоже ведь тоскливо живут люди в этакой-то глуши, и служба, наверное, у них не очень веселая.
Внутри зоны — несколько бараков, столовая-клуб, склад, кипятилка, карцер и маленький домик санчасти с убогим палисадничком вокруг.
Встретила меня местная медицинская команда: фельдшер Саша Новиков, глуховатый толстый мужик лет 35, и производственный фельдшер Женя Викторов, лет 23, подвижный, активный, не лезущий за словом в карман парень. Позже я выяснил, что Александр Васильевич Новиков, бывший фронтовой фельдшер-офицер, сел еще в 1944 году за агитацию, «язычник», то есть сидел за язык, за болтовню, по статье 58–10 — "антисоветская агитация и пропаганда". А Евгений Владимирович, москвич, сидит с 1948 года, имея семь лет за спекуляцию. Были еще два санитара-инвалида — хромой Ташлыков и молодой Куваев, тоже с каким-то изъяном. Был и статистик — бумажная душа, горбатенький молодой Вася Попов, сидевший по указу 6-7-47 (или 7-6-47?) за кражу «колосков».
Санчасть — приемная и она же перевязочная, затем две маленькие комнаты, на 3 койки каждая, маленькая кухонька и совсем малюсенькая комнатушка с койкой и маленьким столиком — мое обиталище. Все старое, унылое и обветшалое. Потом я к этому привык, а сразу как-то грустно и неуютно было. Впрочем, ничего не поделаешь, надо было как-то существовать.
Были кое-какие медикаменты, перевязка, кое-какой инструментарий, а также посуда и белье. Все это находилось в ужасающем беспорядке, перемешано, запущено. Я посмотрел и махнул рукой — пусть пока так и остается: апатия и безразличие еще меня не оставили.
Народа на лагпункте немного, человек 130. А контингент другой, не то что на 6-м. Здесь сидела преимущественно полууголовная, приблатненная молодежь. Вор в законе был один, некий Лапин, человек лет сорока, ничего сам не делавший, ничем не выделявшийся, но все это приблатненное кодло ходило перед ним по струнке. Через год в другом лагере Лапин был зарублен топором каким-то сукой, бывшим вором, порвавшим с воровским законом. Лапин иногда заходил в санчасть, спокойно разговаривал "за жизнь", ничего не требуя и не прося.
Зато вся остальная мелочь ужасно мне надоедала, вымогая освобождения. Однако я держался стойко и давал им освобождение только по болезни. Было на лагпункте несколько «язычников», 2 — 3 человека двадцатипятилетников, сидевших за "измену родине", а на самом деле — за плен. Здесь же находился Юрий Баранов, студент-историк, с которым я вместе сидел в тюрьме и был в одном этапе. Общаться с ним всегда приятно: он эрудит и великий спорщик. И наконец, здесь сидел «язычник» Николай Иванович Живалов, знаменитый деятель МУРа, один из его основателей. Его имя я потом часто встречал в книжках, посвященных московским сыщикам 20 — 30-х годов. Это молчаливый, нелюдимый человек. Работал он все время на лесоповале. Я запомнил его согбенным, с котелком в руках, спешащим в столовую.
Работали люди на износ, от зари до зари, даже в длинные летние дни и белые ночи. Выходные бывали редко. Иногда привозили кино. Картины крутил отделенческий киномеханик, заключенный Линн.
Первые полгода в кино я не ходил, не мог смотреть на экранную вольную жизнь.
Если на 6-м лагпункте треть заключенных составляли прибалты (эстонцы, латыши, литовцы), западные украинцы и белорусы, то здесь были преимущественно русские.
Началась моя работа, и я стал постепенно оттаивать. Поразило меня на 3-м, на 6-м и здесь тоже, что медики ни у кого не измеряли кровяного давления, то есть не пользовались одним из главнейших диагностических приемов. Даже врачи этим не занимались. Где-то в углу я нашел аппарат Рива-Рочи и начал поголовное измерение давления, выявив при этом достаточное количество серьезных гипертоников, которых стал лечить самостоятельно, отправляя тяжелых больных в центральный лазарет. Друккер был неприятно удивлен этими новостями, так как кривая освобождений поползла вверх, и хоть формально никаких ограничений не было, но фактически освобождать более 3 — 5 % не полагалось. Дальше начинались разборы.
Арсенал лекарственных средств был тогда небольшой: сальсолин, папаверин, только что появившийся дибазол для инъекций. Ну разве еще бром для успокоения возбужденных мозговых структур — по И.Павлову, вернее, по безобразно извращенному лысенковскими холуями его учению.
Друккер помог с лекарствами, и дело борьбы с гипертонией пошло впервые в Обозер-ском отделении — полным ходом (гипертония — аналогичная блокадной). Правда, много оказалось и запущенных случаев, где, увы, трудно было уже реально помочь больному.
Появилась и первая жертва болезни. Это было позднее, в январе 1951 года. У вновь прибывшего на 1-й лагпункт 25-летника, как сейчас помню, Соловьева, человека лет 45, оказалось (а я обязательно осматривал всех прибывших) очень высокое давление, что-то порядка 250/130. Я тотчас положил его в свой убогий лазаретишко, а через два дня случился геммораги-ческий инсульт с тяжелыми параличами. Вскоре он потерял сознание и через три часа умер. Я не отходил от него ни на минуту, беспрерывно делал инъекции сердечными, сосудорасширяющими и другими средствами, но все оказалось напрасным. Еще часа 3 он лежал в лазарете, до появле-ния окоченения и трупных пятен. И только тогда с моего разрешения (а начальство, будучи некомпетентным и, как правило, малограмотным, во многом слушалось докторов) тело под конвоем (!) вынесли за зону, а там, привязав к ноге бирку с номером, похоронили на безымянном кладбище.
Постепенно освобождаясь от собственного шока, стал со все большим интересом втягиваться в работу, помогавшую мне как-то временно, нет, не забывать, а затушевывать, приглушать сознание своего положения государственного раба и не так уж остро ощущать неволю.
И тут я столкнулся с пробелами в своих знаниях, в опыте, а порою и с полным незнанием и отсутствием всякой практической сноровки. Учась в академии, основное внимание уделял терапии, внутренним болезням, предполагая в дальнейшем специализироваться именно по этому профилю, ну а к остальным медицинским дисциплинам относился в достаточной мере халатно. И как же я сейчас пожалел об этом! Здесь, в лагере, мне нужно было лечить все, и ошибаться я не имел права: на карту ставились здоровье и жизнь человека. Другие врачи были далеко, встречался я с ними редко, учиться у них не мог, поэтому приходилось рассчитывать только на себя — на свои руки и голову.
Книги. Они помогали мне и учили. Их можно было держать в лагере. И я стал выписывать с воли через магазины, через друзей и родных. Вскоре у меня образовалась приличная медицин-ская библиотека. Особенно помогли "Оперативная хирургия", "Методика обследования хирургического больного", разные справочники. Читал и учился много и упорно. А лагерную, медицинскую специфику стал постигать на собственной шкуре. Во многом, конечно, помогали мне фельдшера, имевшие большой лагерный опыт. Столкнулся я впервые и с «мастырками» — членовредительством в любом его виде. Моя первая «мастырка» оказалась искусственной флегмоной тыла стопы. Она была и в то же время не была похожа на классическую флегмону. Имела какой-то диффузно-размытый вид. На коже виднелись две точки, из которых выделялся гной с отвратительным колибациллярным запахом. Эта «мастырка», как мне объяснили, сотворялась протаскиванием иголки через подкожную клетчатку. Нитка смачивалась слюной, грязью, зубным соскобом и тому подобным. Такую «мастырку» можно было поддерживать и растравлять до бесконечности. Разрежешь, а пациент сделает себе новую. Были ушные, глазные «мастырки», когда в глаз и ухо вливалась разная гадость. Отиты, кератиты, конъюнктивиты тянулись до бесконечности и не поддавались никакому лечению, чему я вначале очень удивлялся, еще не подозревая истины. Люди отрубали себе пальцы, кисти рук, стопы, наносили топорами и шилами рубленые и резаные раны и так далее.
Были и симулянты. Но в мое время всем этим занималась, главным образом, приблатненная публика, мелкие бытовики и уголовники. 58-я и серьезные бытовые статьи (не статьи, конечно, а люди, имевшие их), как правило, никакими «мастырками», симуляциями и прочим не занимались, а работали честно, пока хватало сил.
Несколько слов о ранениях. Их довольно много, чаще всего это были рубленые и резаные раны — сказывалась рабочая специфика. Здесь как раз «мастырок» было мало, все это ранения нечаянные.
Меня учили, что края раны надо обязательно иссекать, обрабатывать, а потом уже зашивать. Так я вначале и делал, но это занимало много времени, да и дополнительную инфекцию можно внести в наших-то нестерильных условиях. Поэтому, если я видел, что рана внешне чистая и с ровными краями, то, тщательно ее продезинфицировав, густо засыпал стрептоцидом и зашивал или накладывал металлические скобки. Чаще всего порубы были на голени над большой берцовой костью. Конечно, рваные и грязные раны я обрабатывал тщательно, как положено, а людей с серьезными ранениями отправлял, оказав первую помощь, в хирургическое отделение центрального лазарета на 3-й лагпункт, где хозяйничали доктора Гриш, Губанов и Христенко, считавшиеся хирургами.