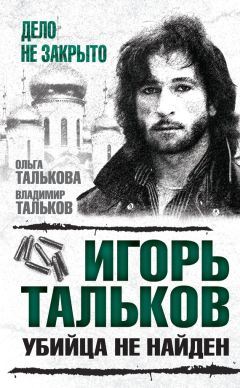Сигизмунд Кржижановский - Хорошее море
IX
У крыльца флигелька, где я живу, зелёные листики и усики дикого винограда. А дальше, за проредью деревьев, синее море. У края веранды круглые и квадратные цветники: тут и розовая, подвязанная шпагатом мальва, и стыдливые красные цветы ночной красавицы, и петунии, и гортензии, и резеда, и кручёный панич, взвивающийся зелёными штопорами в воздух.
Я задумал, с самого начала, с первых моих встреч с солнечным зайчиком на беленой стене комнаты, противопоставить всем этим культурным, кувшино- и чашечеобразным цветам, в их рыхлых, в зелёных пупырышках стеблях, свой Гяур-бах, грядку диких, с твёрдым камнем, отверженных садами и садовниками, растений. Посоветовавшись со знающими людьми, я вооружился лопатой и ведром, полным воды, и отправился, вслед за падающим в море солнцем, к сухим склонам прибрежья. Тут, ещё раньше, я наметил глазом несколько иглистых, бледно-зелёных, но яркоцветных, кустарников.
Первым объектом, на который напали моя лопата и ведро, был высокий с зелёными почками и жёлтым цветком молочай. Корень его цеплялся за почву с необыкновенной силой. Я изломал стебель, смял широкие лопоухие листья и вытащил на поверхность половину корня.
Ещё более тяжёлая схватка предстояла мне с обыкновенным, как мне казалось, одуванчиком. Я подкапывал его лопатой, лил воду из ведра, а одуванчик вонзался в пальцы множеством мелких шершавых игл, цепляясь ветвистым корнем за каменную почву.
В ведре оставалось уже немного воды. Я атаковал какое-то странное тёмно-зелёное растение, семью звёздными лучами впластавшееся в землю. Вот сухощавый кустик, растопыривший бледно-зелёные сухие шишечки и иглы. Чуть ниже странное подобие подорожника с листом, похожим на вывалившийся язык висельника, почему-то утыканный тёмными занозами. Пускаю в работу рукавицу, воду и кирку. Ничего не берёт. Растение страстно цепляется за родной грунт длиннющими, с множеством мочек, корнями; никак их не разлучить с их здесь. Они колют меня, и сквозь перчатку, шипами, предпочитают сломаться, умереть, чем уйти. И из моего гяур-баха ничего не вышло: три-четыре стебля, которые я перенёс с сухой почвы берега на хорошо увлажнённую грядку нашего сада, сжали свои лепестки и отказались жить в первый же день.
Х
Мы встретились на Приморском бульваре (улица Фельдмана). Она, подав мне левую руку (правая сжимала несколько тетрадей и книг), сказала:
– Видите вон тот буксирный пароходишко. Вот если б был такой пароход, что притащил бы к нам в Москву на буксире это вот море.
Я улыбнулся, как полагается, и мы сели рядом на скамью. Море внизу под сотней ступеней знаменитой одесской лестницы было чуть подёрнуто кисеёй тумана. Волнолом перечеркивал его длинной каменной чертой. Вспомнили о наших московских общих знакомых. О номерах журналов, недавно нами разрезанных. Вслушиваясь в речь собеседницы, я сказал:
– Пустое вы одесским ви_
Она, обмолвясь, заменила…
– А дальше?
– А дальше я не поэт.
– Жаль, а ведь поэзия это и есть дальше. Вы понимаете, какой-нибудь Аю-Даг, там, в Крыму, его все видели сперва как гору, ну и гору, а потом кто-то назвал её Аю-Дагом, и всем стал виден медвежий контур. А там родилась легенда: огромный каменный медведь приполз к Чёрному морю, чтобы напиться; стал пить и пить – и когда выпил всё море, конец и миру, и морю, и ему. Вот это и есть дальше.
– И миру, и морю, и ему. А кстати, «Понт Эвксинский», как называли греки вот это море, значит: гостеприимное, доброе море. Багрицкий вряд ли знал об этом, когда писал о «Чёрном море, хорошем море».
– У меня рядом с путеводителем и планами Одессы сборник памяти Багрицкого. Вы читали?
– Да.
– Скучно. Правда, скучно на вате: скучновато. Всё рыбки да птички, птички да рыбки. Аквариум. А Багрицкий не аквариум, а море.
– А вы читали «Белеет парус одинокий»?
– Катаева? Вы спрашиваете потому, что там вон парус или…
– Нет, потому что на вас парусиновое платье.
– Глупо. А вот он написал умно, местами даже мудро.
– В чём там дело?
– Представьте себе вот этот самый порт. Отодвиньте время на тридцать лет вспять. Вот сюда, к левой пристани причаливает старый пароход «Тургенев». На нём старые и новые люди, а самая эпоха – та, когда новое причаливает к старому.
– Витиевато.
– Как та жизнь. Ведь вас тогда ещё и на свете не было. И свет, хоть с трудом, а обходился без вас. Среди пассажиров парохода десятилетний Петя. Он видит мир десятилетне. В этом прелесть романа. Предупреждаю, я не умею рассказывать.
– Вижу без предупреждений. Дальше.
– Но революция пятого года тоже юна, тоже почти ровесница Пети. И они понимают друг друга, они…
– Они понимают, а я не понимаю. Я ещё допускаю, что у людей из глаз слёзы, но чтобы из-под ресниц капал гуммиарабик, которым человек склеивает…
– Я не склеиваю. Так у Катаева. Между прочим, у Катаева…
– Остерегайтесь «между прочим»: это тоже одессизм.
– Да. Основной недостаток очень хорошей повести Катаева в наличии клея. Когда он говорит о приморских камешках, то вы видите перед собой ящик с минералогической коллекцией. Рыбы у него не плавают тоже в одиночку. Дан сразу целый аквариум причудливо подобранных особей. Впрочем, нет приёмов плохих или хороших. Есть хорошо или плохо применённые приёмы. Так Катаеву удалось с блеском оправдать этот же приём коллекционирования сходных объектов в главе, описывающей мальчишескую игру в пуговицы. Сотни пуговиц, отрезанных и оторванных от вицмундиров, сюртуков, форменных тужурок, образуют довольно жуткое собрание. Создаётся образ тогдашней России, застёгнутой на многое множество пуговиц – чинной, бездушной и бюрократической.
– Знаете, а не свернуть ли нам в этот ваш «Парус».
– Если вам скучно, извольте.
– Мне всегда скучно, когда пробуют пересказывать художественные произведения. Вообще у нас три вида оскучнения вещей, три типа критики и истолковательства.
– Первый?
– Первый: критика без руля и ветрил. Второй: с ветрилом, но без руля. Как вот ваша. И наконец: с рулём, но без ветрил.
XI
Сижу на берегу, под чёрной тенью запрокинутой и подоткнутой веслом шаландой. У ног спутанные космы водорослей и мелкая дохлая рыбёшка. В море на торчащих из воды склизлых камнях стоят рыболовы. Они замахиваются на волны длинными кнутовищами удочек и изредка выдёргивают из рыжей взбаламученной воды рыжих бычков. Английские рыбаки называют их «miller's thuneb», «большим пальцем мельника», и действительно, голова бычка напоминает приплюснутый большой палец руки. Сейчас я вижу, как ближайший охотник за рыбьими черепами нанизывает на нить очередного бычка и затем бросает нить в воду. Таким образом, изловленному пучеглазому с круглыми плавниками существу временно возвращена жизнь, но жизнь на нити. Образ, который мог бы быть весьма с руки любому пессимисту. Вообще в приёмах ловли более сильным более слабого немало мрачной иронии. Возьмите хотя бы название одной из простейших рыболовных снастей: самодур. Или устройство японских неводов или скипасей, длинными перпендикулярами составленных от берега в море. Они рассчитаны только на то, что рыба, ткнувшись в перегораживающую им дорогу сеть, не уходит назад, а начинает искать выхода, и именно поэтому попадает в мотню, сетьевой мешок, из которого нет выхода.
Мне рассказывали о редко применяющемся сейчас способе вылавливания тенью, прохладой. В жаркие дни над поверхностью штилевого моря расстилается непрозрачный навес: рыба, ждущая прохлады, вплывает под тень навеса и попадает в расставленные ей здесь сети.
XII
Дня два шторм. Купаться нельзя, море бьёт камнями, вхлёстывается в ноздри и в рот волной и приглашает в утопленники. Наконец низовка израсходовала себя, волны спрятались под поверхность и я, обмотавши шею полотенцем, спускаюсь к берегу. Часть его проглочена утихомирившимся штормом. На оставшейся полосе груды вереска и травы зостеры. Мёртвые стеклянные грибы медуз. Я, извините меня, снимаю штаны и присаживаюсь на мокром камне. И странное явление: у ногтей моих ног ползают сотни и сотни божьих коровок. Некоторые из них высовывают из-под своих красных, в чёрной точковине, елитр, длинные, подмоченные солёной водой, перепончатые крылышки. Но ни одна из них не взлетает. Мало того – всех их притягивает не берег, а море. Вероятно, их принесло ветром. Сейчас его нет. Но – я слежу очень внимательно – ни одна из букашек не уползает прочь, все они взбираются на привольные острия камней, на эллиптические выступы мидий, и всех их слизывает лёгкий прибой туда, в волны. Я вспоминаю рассказы Замятина времён гражданской войны, смерть лирика Блока и его статьи «о кризисе гуманизма» и… мало ли о чём я вспоминаю. Так, например, в памяти, как на поверхности воды всплывает одно трагикомическое насосавшееся воды бревно, которое я наблюдал несколько лет тому назад у Надвоицкого водопада. Там, где сейчас построены шлюзы на магистрали канала-Беломорья. Тогда о будущем канале говорили лишь редкие глухие взрывы да домики рабочих посёлков у берега только намечавшейся трассы. Бревно, шедшее «молью», с озера Выг, сброшенное водопадом вниз, случайно попало в боковую заводь, чуть шевелимую проносящимся мимо водопадом. Бревно, двигаясь по часовой стрелке, притягиваемое током вод, описывало полный круг, но подойдя к вертикальному руслу водопада, отшвыривалось им назад, и снова свершало свой путь по водному циферблату затона, отсчитывая, часовой стрелке подобно, проносящееся мимо время.