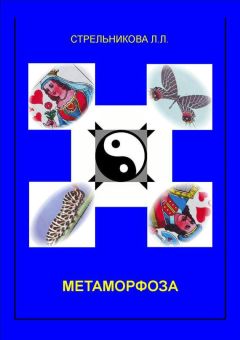Иероним Ясинский - Верочка
Павел, сонный, но величественный, снял с меня пальто, и пока я входил в зал, он успел зажечь лампу. Как скучно, однако, в этом зале…
Не дальше, как сегодня утром слышался здесь Верочкин смех. Солнце горело, и всё её молодое яркое лицо было залито тёплым светом. Мне стоит закрыть глаза, и я вижу её снова.
Но я всё её вижу с дядей и m-lle Эммой. Её стерегут, быть может, подозревают мою страсть, а быть может…
В самом деле, что это сказала Поволоцкая?..
Мне сделалось стыдно, я засмеялся. Поволоцкая — кокетка, злая и чувственная. Ей просто хочется расшевелить меня, раздражить. Я терпеть не мог женщин вроде Ольги Сократовны, потому что теоретически я ненавидел чувственность.
Эта Ольга Сократовна всё подводит к одному знаменателю. Высокая и чистая любовь, свежая и молодая, непонятна ей, и она цинически (сердито думал я) издевается над моим робким, стыдливым чувством, которое угадала во мне со свойственной ей проницательностью.
Но пусть она хлопочет как ей угодно, пусть клевещет исподтишка — не добьётся она от меня ни словечка, и не выдам я ей своего секрета. Тем более, что до последнего момента я ещё и сам не отдавал себе отчёта, что это за секрет такой. Он ютился в самом сокровенном тайнике души моей… Я берёг его, лелеял, боялся облечь в слово; потому что слово слишком грубо для него…
Размышляя таким образом, вошёл я в дядин кабинет, где в её отсутствие должен был спать. На турецком диване была приготовлена постель. Я отпустил Павла и часа три, если не больше, не мог заснуть.
Мысленно я мчался за курьерским поездом, уносившим Верочку в туманную даль. Полугрезы, полумечты обступали меня со всех сторон, и голова горела; среди невозмутимой тишины я слышал, как неровно бьётся моё сердце, как стучит в висках. Губы пересохли.
Мне не лежалось, не сиделось, и сунув ноги в туфли, я стал ходить. В зале теперь было темно. Меня потянуло в этот мрак. А из зала потянуло в Верочкину комнату.
Я взял свечку и с тоскливым и робким чувством вошёл туда.
В этой комнате были полукруглые окна, лапчатые филодендроны пышно разрослись в углу, за бархатным диванчиком, и одеяло на узенькой белой с позолотою кровати было огненно-красное.
Жадно смотрел я кругом. В качестве молодого естественника, я отрицал душу; но мне казалось, однако, что часть Верочкиной души носится здесь, — аромат, отделяемый туалетом, кружил мне голову.
Однако, зачем я пришёл сюда? Мне показалось, что я пришёл с определённою целью и вдруг забыл, с какою. Или и в самом деле только затем, чтоб взглянуть на эту кокетливую постельку, подышать этим сонным пахучим воздухом?
Я рассеянно поднял глаза на стены, оклеенные тёмными дорогими обоями. На них висело много фотографий. Я их знал, видел уже раньше. Но тем не менее я стал их рассматривать, всё также рассеянно, небрежно, точно впросонках.
Верочка должна была любить Сергея Ипполитовича, он был её благодетелем, вторым отцом. Немудрено, что фотографии эти представляли самую полную коллекцию его портретов, да, вероятно, и единственную. Вот он в мундире студента конца шестидесятых годов. Вот он в широкой соломенной шляпе и с посредническим знаком. Был он и в камер-юнкерском мундире. На одном портрете он в шинели, на другом — во фраке, и в руках держит статуэтку или свёрток бумаги — трудно разобрать. Даже над кроватью Верочки висит в бархатной раме портрет Сергея Ипполитовича, из самых недавних, с ласковым и скептическим выражением благообразного лица. Портрет был большой, и этой улыбки нет на тех фотографиях.
«Отчего нет?» — машинально задал я себе вопрос. Постояв несколько минут посреди комнаты, я также машинально вышел. В голове шумело, я шатался как пьяный, и это полусонное состояние опять помешало мне сообразить, зачем именно приходил я в Верочкину комнату, хоть смутно мне продолжало казаться, что цель была, и я достиг её, наконец.
Было три часа. Я крепко заснул и видел отвратительные тяжёлые сны, которые тем, впрочем, хороши, что оставляют по себе лишь неясное воспоминание. Какая-то ужасная мысль, мерзкая как преступление, всю ночь мучила меня. Должно быть, я стонал, плакал: подушка моя была в слезах. Может быть, сумасшедшим приходят идеи, от которых они содрогаются, когда выздоравливают, но хорошенько их вспомнить не могут, потому что нормальный мозг совсем не то, что больной, и думает иными образами и красками. Я проснулся дрожа и рад был, что рассеялся безобразный туман диких сновидений. День был солнечный как и вчера, а на душе у меня было скверно. И когда, одевшись, я посмотрел на себя в зеркало, мне показалось, что я сильно похудел и побледнел за эту проклятую ночь.
С утра в доме началась чистка и мойка, обычная предпраздничная возня. Я вышел и долго бродил по Тополькам. Мне хотелось освежиться. Но напрасно любовался я с Университетского спуска чудным пейзажем, в котором яркие солнечные краски и лёгкие, как лунный свет, тени, твёрдые контуры домов и тонущие в розовой дымке дали, белизна снега и лиловые пятна далёких садов, холодная лазурь неба и горячие искры на церковных крестах, — всё смешалось в гармоничное целое, в разноцветный туман. Тоска сосала мне грудь.
Я вернулся в свой флигель. Мелкие, ничтожные факты всплыли в моей памяти помимо воли. Вспомнилось всё, что только могло вспомниться о Верочке… и вдруг странная тревога овладела мною.
Сначала это была чисто-физическая тревога, безотчётная и бессознательная, и я быстро заходил по комнате. Беппо вообразил, что я заигрываю с ним, и с лаем стал бегать взад и вперёд. Я ударил его. Беппо раздражал меня, я всё никак не мог сосредоточиться на чём-то. Беппо обиделся и замолк, а я продолжал ходить. Вспомнил я вчерашние неопределённые намёки Поволоцкой… Может быть, это и есть искомое что-то?
Я накинул плед и отправился в дом. Всё было вычищено, вымыто. Ни пылинки. В комнате Верочки вещи были расставлены в другом порядке. Тонкий аромат духов, которые употребляла Верочка, исчез. Стоял сырой, неприятный запах. Я взглянул на постель. Снимая со стены ковёр, сломали колечко в портрете Сергея Ипполитовича. Этот портрет, в светло-зелёной бархатной раме, лежал теперь на подушке и прямо смотрел на меня насмешливым, счастливым взглядом. Я внезапно возненавидел его. У меня потемнело в глазах, я схватил его и ударил о пол. Он попал на дорожку и не разбился. Тогда я раздавил его каблуком.
Павел, в отворённую дверь, вежливо смотрел на эту сцену.
Вечером я был уже далеко. Я ехал в Петербург, меня трясла лихорадка, и я сам не был хорошенько уверен, в здравом ли я уме.
VСтанции мелькали, хрипло свистел паровоз. Поезд летел на всех парах, и встречные поезда проносились мимо, в сумраке мглистого вечера точно какие-то гремящие метеоры. Но мне казалось, что мы тихо едем. На одной станции поезд простоял лишние минуты. Я вышел из себя, ругал железнодорожные порядки, хотел записать жалобу в книгу, — и не успел: колокольчик забил, я со всех ног бросился в вагон. Всю ночь я не спал. Я ломал пальцы и глядел в окно тоскующим взглядом на бесконечный мрак, расстилавшийся передо мною. Где-нибудь на горизонте мерцал огонёк — это усиливало мою тоску. Тоска и бешенство, бессильное бешенство и опять тоска. От уверенности я переходил к сомнению. Ясно поставить обвинение против Сергея Ипполитовича я боялся. Я не хотел осквернить определённым подозрением образ Верочкин. Но она была так невинна, а Сергей Ипполитович был такой опытный человек! Сергей Ипполитович вечно с ней. Он целует её, держит у себя на коленях… Я кусал губы до крови.
Но потом я соображал хладнокровнее, взвешивал всевозможные мелочи, вспоминал — и ничего не мог построить в улику им, ничего, что хотя бы косвенно обвиняло их. Дядя втрое старше Верочки. Он, по справедливости, имеет право на её привязанность: относится к ней как отец. Ведь, меня же, ещё не так давно, трогало это отношение! Я могу очутиться в смешном положении ревнивого мальчишки. Велика беда, что старик приласкает дочь! Мне делалось стыдно, гневное возбуждение исчезало, и я с недоумением прислушивался к мерному шуму поезда, с недоумением смотрел на искры, бороздившие чёрный воздух. Я спрашивал себя: зачем я еду в Петербург?
В ответ продолжало ныть сердце… Меня тянуло вперёд, к ним, неудержимо. Доводы рассудка уступали напору чувства, которое шептало мне, что я прав. Эта бессознательная логика приводила нелепые доказательства; они не были облечены даже в определённые словесные знаки, и тем не менее покоряли меня; не были убедительны, но били прямо по нервам.
Из-за дымчатых туч глянул месяц и осветил белые равнины бледным светом, в котором деревья казались быстро бегущими назад косматыми призраками. Раздвинулась даль. Потом опять насунулся мрак. Пошёл снег.
В вагоне было душно. Фонарь под зелёной шёлковой ширмочкой бросал на лица спящих пассажиров тёмно-жёлтый свет. Там торчала острая бородка закинутой на бархатную спинку физиономии франтика; там толстая дама спала, раскрыв круглый рот; девушка свернулась клубочком, плотно подобрав платье под ноги. Мысль, что могут увидеть её ноги, должно быть, не даёт ей покоя, и она, сквозь сон, постоянно протягивает к ним руку. И я устал. Это сонное царство заставляло и меня подумать об отдыхе. Я даже примостился поудобнее, но не заснул.