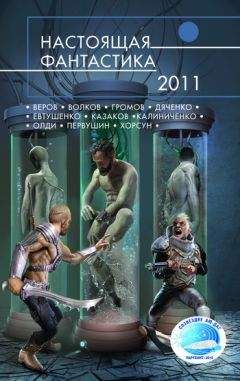Алексей Кондратович - Нас волокло время
Время такое, мемуары, когда-то стариковская забава, стали одним из ведущих жанров, если они вообще жанр... Должно быть, начинает сбываться пророчество Толстого.
Но я не собираюсь писать чисто мемуарную книгу, хотя вспоминательного в ней будет много. Если свобода, полное изгнание всего, что связывает, так свобода и полное изгнанье. Мне хочется рассказать и о том, что было, но больше о том, что и сейчас есть. И сейчас есть то, что отживает свой век, то, что было, а живет активно, порой агрессивно. Отжившее, мертвое так хватает живое, что живому впору ноги унести. Сахаров уже третий год в Горьком (нашли же местечко для ссылки!), кто его загнал туда? Мертвецы? Как бы не так. Все перепуталось, и двоемыслие, о котором я пишу, - это сосуществование мертвого и живого в одном дышащем организме. В тебе и во мне. Вот что надо понять. Тогда мемуары могут стать остросовременнейшими, как чтение стенограмм съездов двадцатых, и тридцатых, и даже десятых годов: оттуда все еще продолжают лететь снаряды, поражающие площадь современности. Я уж чуть ли не сорок пять лет состою членом партии, а был мне год (всего год), когда на десятом съезде партии было провозглашено: больше двух не собираться - это уже фракция. Теперь этого и слова нет - фракция, но если собираются больше двух, то только не на собрании: там все как один, там монолит.
Что - пожалуй, всем ясно. Кто? Кто - это я.
Я живу на седьмом этаже. Это выше деревьев, и, кажется, только одно из ближних на уровне этажа. А так с балкона курчавая кипень зеленых крон, уходящая полосой до Пицундского мыса, слева - матовое стекло озера с медленно передвигающимися точками уток, долина, за маревом сама Пицунда прямоугольники белых зданий, какие повсюду, один поставлен на попа четырнадцатиэтажный, среди них желтая головка древнего храма, единственная достопримечательность, кроме, конечно, реликтовых сосен, они огорожены проволочной сеткой, как в вольере, деревья в зоопарке, их немного, и боюсь, что они скоро кончатся. На днях тут был шторм, к берегу вынесло в полметра толщины и метра три в длину обрубок сосны реликтовой. Кто-то ее спилил и распилил. Море не приняло обрубок в свою стихию и вернуло обратно. Долго ли оно, вечное, все свитое в коричневые узлы и наросты, будет лежать здесь, на пляжном песке? Сомневаюсь: дальше распилят.
По утрам, когда я просыпаюсь, над далью, долиной, озером и над подбалконными кущами - туман. Сизый и густой, недвижный, и в нем как бы тонут и кущи, высовываясь лишь вершинками, отдельными купами, и далекие высокие здания, старого храма обычно не видно.
Я не смог, даже если бы захотел, восстановить свое прошлое. Оно, как отдельные вершинки и купы, поднимается в памяти. Да и кому нужно связное повествование. Не писать же, в самом деле, традиционные мемуары. Важно - кто. А это кто, и по вершинкам, по частностям, читатель установит. Кто нужно для того, чтобы выпуклее было что. А вовсе не для того, чтобы о себе написать. Увы, мы давно перестали быть частными лицами, и сквозь каждого из нас проросло время. Иногда слышишь: "Через него особенно видно наше время". А через кого его не видно?
Как долго я подбираюсь к началу. Пора и начинать, а не подкрадываться.
Я родился 28 февраля 1920 года. Год был високосный.
По коридору "Нового мира" шел навстречу мне Федя Абрамов. Поравнявшись со мной, посмотрел на меня и угрюмым своим хрипловатым голосом протянул с удивлением, но без зависти:
- Молодой ты...
А я на него посмотрел: ни одного седого волоса, блеклые, усталые глаза, но еще не подернутые равнодушием - первый признак старости. Я подумал и сказал:
- А, пожалуй, я старше тебя...
- А ты какого года рождения?
- Двадцатого.
- А в каком месяце?
- В феврале. Двадцать девятого...
- Мальчишка! - вскричал я. Я двадцать восьмого!
- Да-а, ну знаешь, надо по этому поводу выпить...
Выпить мы не выпили: в тот день закрутили дела, а потом... чего пить, мало ли бывает невероятных совпадений.
В сороковые и отчасти пятидесятые годы, когда появлялось нечто правдивое в литературе, критика часто жила по принципу: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А в жизни все может быть, и невероятное тоже просвечивает какими-то гранями действительности, истории. С Федей Абрамовым и в самом деле занятный случай. А с бабкой по матери?
Я не люблю и считаю грубым, не имеющим никакого отношения к науке и вообще к здравому смыслу деление на классы. Деление, удобное для политиков, демагогов, но всей пестроты людских положений и состояний ни в какой мере не отражающее, напротив, все только путающее. Один дед мой, по матери, Никифор Егорович Ильин, был крестьянином из подмосковной деревни Каменки, там я и родился. Был дед середняком: одна корова, одна лошадь, пять овец, десятины три небогатой земли, зимой занимался извозом. Собственник. Мелкая буржуазия? Так, что ли, по классовой схеме мы обозначаем крестьянство?
Другой дед, по отцу, был ткацким мастером Прохоровской мануфактуры в Вышнем Волочке - Иван Иванович, моего отца тоже назвали Иваном, тоже был Иван Иванович. Рабочий класс. Но было у деда два крепких, стоявших один возле другого дома, с пианино, конторкой, мне больше всего запомнился настоящий небольшой крокодильчик на той конторке и музыкальная игрушка: на вращающемся медном валике - острые иголочки, и когда валик заведен, медленно вращаются иголочки, зацепляют соответствующие пластинки, и они издают просто тенькающую мелодию. Мелодию эту я уже не помню, но наслаждение от чудной и, по-видимому, дорогой игрушки осталось во мне навсегда. У Никифора Егоровича ничего не было, кроме затрепанного Евангелия. Другой дед - из рабочего класса, кстати, не скопидом, не жмот, бывало, запивал напропалую, как истинный русский мастеровой, пил по нескольку дней, но управляющий мануфактуры все ему прощал: дед был большим мастером по налаживанию станков. Иван Иванович был в несколько раз больше буржуазией, чем каменский. В 1905 году во время забастовки его даже на тачке вывезли рабочие за ворота фабрики. Как хозяйского прихвостня, хотя никаким прихвостнем он не был. По всей видимости, это был человек незаурядный. Несмотря на запои, сумел не только отгрохать два высоких с дубовыми заборами дома, начиненных всем, чем владел в то время средний чиновник или учитель, но и дать детям образование, один из моих дядьев - дядя Коля - во время мировой войны был офицером с тремя ромбами. После революции перешел на сторону Красной Армии, умер в тридцать пятом году сорока с небольшим. Был заместителем по инженерной части у командующего Западным военным округом Уборевича. Говорят, был талантливый военный, инженер. Умер вовремя, через год его бы загребли вместе с Уборевичем и расстреляли как "врага народа", можно и не сомневаться.
Знаю, знаю, любители классовых дефиниций тотчас же определят Ивана Ивановича в "подкупленную буржуазией часть рабочего класса". Так все-таки остаются они после этого рабочим классом или нет? А Никифор Егорович так и останется мелкой буржуазией, хотя эта мелкая буржуазия вкалывала с утра до ночи и знала, как вкалывать. Но куда тогда поместится бабушка Мария Степановна?
Как быть с бабкой по матери?
Она была воспитанницей художника-передвижника Прянишникова. Бездетные Прянишниковы взяли ее из какой-то бедной московской семьи. Детство свое да и юность вплоть до замужества бабушка вспоминала с умилением и печалью: это были, конечно, лучшие годы в ее жизни. Она помнила Льва Толстого, он играл с ней. "Я у него и на коленях сидела", - говорила она с тихим восторгом. Когда она научилась читать, Толстой подарил ей две свои книжки и написал что-то на них. Что - бабушка не помнила, осталось в памяти лишь "Маше...". Я бы всю свою библиотеку отдал за эти две книжки, но я их уже не застал: дед, ненавидевший все, что было до него, и значит, с Прянишниковыми, сжег однажды эти книжки, и я этого не могу ему простить. Маша росла как своя в доме художника, но когда ей пошел восемнадцатый год, "барыня", как она называла жену Прянишникова, возревновала его к воспитаннице. Бабушка говорила, что беспричинно, "просто я была молоденькая". А на воспитанницу эту заглядывался молоденький извозчик, будущий дед мой. Бабушка говорила, что ему было лестно: он может взять в жены из барской семьи, он не скрывал этого и потом, когда взял и тотчас же убедился, что к крестьянской работе она вовсе не пригодна, и он разозлился на нее на всю жизнь, хотя злиться надо было бы на самого себя. Всю жизнь он попрекал бабушку, звал сладкоежкой (она любила конфетку, печеньице, что-нибудь не по-деревенски вкусненькое), неделухой, а иногда в гневе и барыней; последнее произносилось с издевкой: мол, все-таки ты не барыня.
А настоящая барыня, та, что поскорее постаралась избавиться от воспитанницы (через год после замужества Маши Прянишников умер, был он с молодости тяжко болен, умер 54 лет), внезапно объявилась уже в тридцатых годах, во время голода, вызванного "революцией сверху" в сельском хозяйстве. (Заметили ли вы, как революция сверху ли, снизу ли - так голод, теперь уж и раз социализм - тоже подтягивай штаны.) Старуха, потеряв мужа в 1894 году, дожила до тех лет и каким-то образом оказалась в Архангельске; помнила она, что Маша живет в деревне Каменка Московского уезда Московской губернии, и по этому устаревшему адресу письмо ее дошло, удивительно, но дошло. Бабушке было тогда, должно быть, лет шестьдесят или около того, но что с ней было! Скрывая от Никифора письмо, она читала его моей матери, и та ей выговаривала: "Ты, мать, не в своем уме, она тебе всю жизнь перекалечила, а ты теперь ей пошлешь сухари и сало". (Старуха Прянишникова просила прислать ей что-нибудь из еды, доходила с голоду.) Но у бабушки это письмо было как возвращение в далекую и сладкую юность, и я, мальчишка, видел: никого не послушается - пошлет. Потом она несколько раз тайком от деда (как она умудрялась это делать в то время, когда каждый кусок хлеба был на строгом счету - трудно сказать) посылала в Архангельск посылки, пока старуха где-то в тридцать третьем или тридцать четвертом году не умерла. Всякий раз моя мать упрекала ("самим есть нечего, а ты..."), но бабушка, поджав губы, слушала ее и ничего не отвечала.