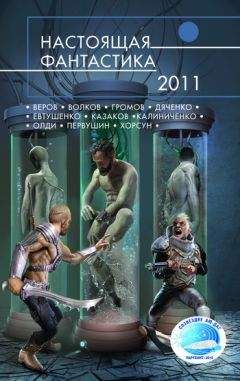Алексей Кондратович - Нас волокло время
Сижу я вместе с Александром Трифоновичем в этой Кремлевке, парк вокруг зданий, больше похожий на лес, сойди с асфальтированной дорожки - и ни тропки, и в лесу такой девственности давно не увидишь, а здесь начальство гуляет по ежедневно поливаемому асфальту, в лес редко кто заходит, отвыкли от земли. Александр Трифонович мне рассказывает историю вознесения Бодюла. Бодюл первый секретарь ЦК Молдавии и на только что прошедшем двадцать третьем съезде партии громил "Новый мир". На этом съезде, кажется, не было большего зверя, чем наш журнал, в котором всего-то семь членов партии. Семь на пятнадцать миллионов. Однако хороши шуточки, когда секретарь МК Конотоп, секретарь МГК Егорычев, молдавский господарь Бодюл и еще несколько высокопоставленных ораторов гневно написанные их чиновниками абзацы посвятили именно нам, семи из пятнадцати миллионов. И сижу я на аккуратной лавочке, за которой лес с зелеными крыльями папоротников, и слушаю:
- Бодюл был секретарем какого-то сельского райкома партии, сам личность невзрачненькая, но зато красивая жена <...> - Вот как это делается и в наше время, и вот кто такой Бодюл, - усмехается Твардовский, - а хотите, чтобы он против "Нового мира" не выступал. Он выступит против мамы родной, если скажут, что надо...
- Кто вам рассказал эту историю-то? - спрашиваю я.
- Конечно, Расул Гамзатов, он тут все знает, и от него я узнаю все кремлевские тайны, - смеется Твардовский.
В это время по дорожке идет сгорбившись изжелта-синий старик. С трудом по горбатому носу догадываюсь: да не Куприков ли это? Был такой ответственный работник в отделе пропаганды, кажется, какой-то зам или пом, важный, маскообразный, всегда на совещаниях редакторов центральных газет, журналов и издательских начальников сидевший в президиуме или с деловитым видом, молча, с непременной папкой в руках проходивший тяжелой размеренной поступью к этому же президиуму...
У меня был только один разговор с ним по телефону, не помню уже, по какому вопросу, но я сказал ему, что мы не согласны с мнением отдела. Он удивленно протянул: "Как не согласны?" - он был поражен, что с мнением отдела ЦК можно вообще не согласиться, я у него, по-видимому, был первый, сказавший такие странные, непостижимые слова. Он не нашелся что ответить от удивления, и сказал, что он об этом доложит. Я сказал: "Докладывайте", он совсем поразился и промямлил с послушной интонацией, словно я ему приказывал: "Да, да, я доложу". Без угрозы.
И вот этот чиновник шел теперь по дорожке. На лице его и раньше не было следов жизни, теперь все приметы близкой смерти, отчего появилось в нем человеческое. "Крепко прихватило..." - сказал я.
- А вы знаете, что он тут говорит? - усмехнулся Твардовский, - все поносит, да еще как!.. Вечерком в гостиной раза два такие вещи выкладывал, что я вам скажу... - И Твардовский покачал головой.
Перед смертью они обретают дар речи и начинают выговариваться. Спасти душу, что ли, хотят? Или от физической слабости теряют контроль. Или не все ли равно теперь!..
Двоемыслие, двоедумие, расколотость живого на две части, прекрасно уживающиеся и сосуществующие одна с другой, пожалуй, самая отличительная черта советского человека. Любых рангов и положений. Послушайте, что говорят в кулуарах собрания и на самом собрании - разные люди? Да нет, те же самые, только на трибуне он один, а сойдя с нее - другой.
Не знаю, был ли в русской истории период, когда это многоликое и однотонное, равно, похоже, во все души проникшее двойничество было так распространено, стало образом не мышления, нет, а самим образом жизни. В будничном обиходе этого как-то не замечаешь. Живешь и живешь. Но стоит притронуться к бумаге, как сразу чувствуешь: а этого нельзя, то надо обойти, об этом промолчать, о том сказать потоньше, авось не заметят, и проскочит. Не мысль ведет тебя, а ты ее все время пригибаешь, прилаживаешь к тому, что можно и нельзя. Смешно подумать, чтобы Чехов или Толстой знали какого-то внутреннего редактора. Да и не такие великие, в общем-то слабенькие писатели, так называемые шестидесятники и семидесятники, разве они хоть в минуты душевной слабости задумывались: пропустят или не пропустят? Сама эта мысль им могла показаться кощунственной, невозможной для пишущего. Хотя бедняги знали все до жутких запоев от нищеты и безденежья. Во время одного из таких запоев Николай Успенский горло себе перерезал на Кузнецком мосту, совсем недалеко от нынешней Книжной лавки писателей, где идет торг книгами, написанными по одному принципу: что надо. Книжками, еще до выхода обреченными, мертворожденными. У писателя бессовестного, а таких подавляющее большинство, таких навалом, чуть ли не главный интерес: побольше листов. "Седовласая Магдалина", Лев Никулин, тот просто говорил писателям: "Ну зачем вы этот эпизод на страничке изложили, его легко можно было бы и на печатный лист разогнать". Сам он именно так разгонял свои сочинения - будь они о Шаляпине или Савинкове. Разгонял враньем, выдумкой, чем же еще? Те же, у кого сохраняется представление о честности писательской, живут с постоянной раздвоенностью. За бумажным листом, когда включен постоянный и твой собственный надсмотрщик, который то и дело поправляет тебя: не туда, обойди, эк чего захотел, ну куда тебя понесло, вычеркивай, когда ты все время сдерживаешь перо, невольно приходит в голову самое простое и убийственное: ведь ты себя обкрадываешь, свой, может, малюсенький талант превращаешь в микроскопический, так что впору спросить себя: да есть ли он у тебя вообще?
И это мучительно: не знать даже самого себя.
"Всего хуже сознавать себя дополнением собственной мебели", - говорил Ключевский. Чаще всего чувствуешь себя именно так: дополнением, потому что виражируешь, слаломишь, смелости, что ли, в нас нет, чтобы идти прямо на истину? Да, нет. Но это слишком простой ответ. Ответ успокаивающий, убаюкивающий: что с меня взять, чего нет, того нет - и живи спокойно. Смелых людей, может, больше, чем трусов. Отвыкли от смелости, привыкли к мебели. Чтобы она была и чтобы окружала меня. И уже не замечаешь, что ты для нее, ты дополнение к ней. Уже вещи, благополучие, покой, достаток, положение, пост, президиум, ожидание звания или награды, дадут тираж или нет... "А в Дубултах все-таки лучше отдыхать, чем в Пицунде". - "Слышали, главным редактором будет Михаил Алексеев". - "Да нет, отказался, там было двадцать претендентов на этот пост". - "Нет, тридцать", - и вроде бы какое тебе дело - двадцать или тридцать, и вообще, кто там будет, но включаешься в пустейший разговор... А зачем все это? Зачем?
Конец-то недалеко. Трава пучками - из рук!
И тихий, всплывающий из вечности крест надо мной.
Кто знает, когда я шмякнусь о дно канавы, нигде ведь не прочитаешь на роду написанное.
Вот почему я стал задумываться о работе, напрочь раскованной от всего, и прежде всего от требований и указаний. Прочь внутреннего редактора! Пусть пишется все, что пишется. В конце концов интересно и самому: ну а без этого главлитчика внутри самого себя стою ли я что-нибудь? Знаю одно: без главлитчика смогу написать интереснее, чем с ним. Что' стою - дело темное... Но уж становится все труднее и труднее жить с ощущением, что губишь себя, так и не выскажешься и хоть перед смертью подумаешь: я кое-что сделал.
Сейчас этого я не могу сказать.
Значит, надо попробовать.
"Я за жизнь, - писала Марина Цветаева, - за то, что было. Что было жизнь, как было - автор. Я за этот союз".
В идеале хотелось бы написать такое, тем более что Цветаева пишет как раз о литературе, как бы мы теперь сказали, документальной, возможно, имеет в виду саму мемуаристику. <...>
Время такое... Вымирание литературы? В какой-то мере - да. Классический роман - в прошлом. Чем больше современная проза пропитана документальностью, то есть чем ближе к реальному факту, к истории с ее реалиями, тем притягательнее. Когда-то безраздельно царствовавший вымысел теперь не в цене. Если не было вымысла, не было и литературы. Так было еще несколько десятилетий назад. Сейчас многие читают журналы с конца, с петитных разделов. Там факты. Как осмыслены - неважно, я и сам могу их осмыслить, но дайте мне интересные, неизвестные факты, дайте мне сырую, не испорченную художествами действительность, и я в ней сам разберусь. А роман, да еще неизвестного автора, пролистываешь за минуту: скорее всего в нем нет ни искусства, ни действительности, то есть, попросту говоря, ничего нового я из него не узнаю, а эстетического удовольствия тоже не получу, потому что такое удовольствие теперь уж совершеннейшая редкость.
Время такое, мемуары, когда-то стариковская забава, стали одним из ведущих жанров, если они вообще жанр... Должно быть, начинает сбываться пророчество Толстого.
Но я не собираюсь писать чисто мемуарную книгу, хотя вспоминательного в ней будет много. Если свобода, полное изгнание всего, что связывает, так свобода и полное изгнанье. Мне хочется рассказать и о том, что было, но больше о том, что и сейчас есть. И сейчас есть то, что отживает свой век, то, что было, а живет активно, порой агрессивно. Отжившее, мертвое так хватает живое, что живому впору ноги унести. Сахаров уже третий год в Горьком (нашли же местечко для ссылки!), кто его загнал туда? Мертвецы? Как бы не так. Все перепуталось, и двоемыслие, о котором я пишу, - это сосуществование мертвого и живого в одном дышащем организме. В тебе и во мне. Вот что надо понять. Тогда мемуары могут стать остросовременнейшими, как чтение стенограмм съездов двадцатых, и тридцатых, и даже десятых годов: оттуда все еще продолжают лететь снаряды, поражающие площадь современности. Я уж чуть ли не сорок пять лет состою членом партии, а был мне год (всего год), когда на десятом съезде партии было провозглашено: больше двух не собираться - это уже фракция. Теперь этого и слова нет - фракция, но если собираются больше двух, то только не на собрании: там все как один, там монолит.