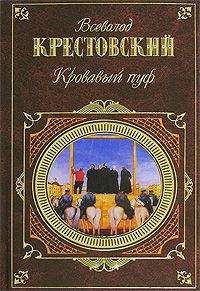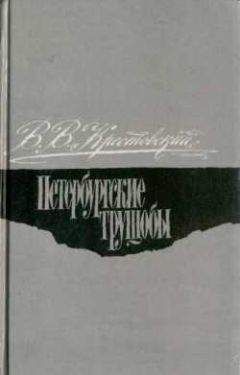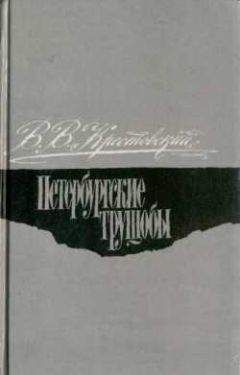Всеволод Крестовский - Кровавый пуф. Книга 2. Две силы
IV. "Палац сломяны"
Длинный, низенький, одноэтажный деревянный дом, с высокой соломенной кровлей, бока которой справа и слева были срезаны, — дом с выдающимся посередине крыльцом, которое таким образом делило его посредством сеней на две равные половины, взглянул на Хвалынцева из вечерней мглы рядом освещенных окошек. По сторонам двора, вокруг и около, можно было разглядеть несколько жилых и хозяйственных построек, разбросанных без всякого порядка, в каком-то хаотическом виде.
Едва вступил Хвалынцев в сени и стал скидать с себя верхнюю одежду, как дверь из залы отворилась и на пороге ее, в сопровождении Свитки, показался сам пан Котырло, и притом с самым радушным, предупредительным видом.
Это был мужчина лет за пятьдесят, весьма еще бодрый и несколько дородный, очень живо напоминавший собою тех неслужащих дворян-помещиков, которые, большую часть своих досугов посвящая лошадям и собакам, арапникам и зайцам, стараются всю наружность свою, весь склад свой, весь тип свой приблизить к типу лихих, старослуживых отставных майоров-поляков, которые любят, чтобы в отставке их титуловали полковниками.
Пан Котырло, пожимая обеими руками руку Хвалынцева и весь расплываясь в сладко-приветливой улыбке, еще в сенях обратился к нему на французском языке с приветствием, которое заключалось в том, что он душевно рад видеть у себя человека родственной национальности, с которым познакомился уже заочно из рекомендации Свитки, и потому-де просит войти в свой дом, как в дом искреннего друга. Это приветствие и весь склад его, очевидно, были уже несколько обдуманы заранее.
Хвалынцев вступил в залу, где и был представлен всему семейству. Ему тотчас же с самой предупредительной любезностью был предложен на почетном месте, возле самого хозяина, стул за длинным чайным столом, вокруг которого сидело теперь все общество. На столе было вдоволь наставлено разных разностей: варений и печений, на которые вообще такие мастерицы польские хозяйки. Тут были и бабы, и мазурки, и сухаречки, и вендли на, и шинка, и палатки, и кишки, и колбасы — и все это в большом изобилии. Тут же красовались какие-то разнокалиберные, сбродные чашки, блюдцы и стаканы, и глиняная крынка со сливками, прямо с погреба, и великолепнейшие тарелки старого саксонского фарфора под жирными кишками и палатками, и простой молочник с отбитым носком и со склеенною сургучом ручкой.
Все семейство пана Котырло в отношении Хвалынцева сразу же постаралось выказать самый радушный прием.
Сама пани Котырло, высокая худощаво-болезненная женщина, лет уже за сорок, постоянно хранила как бы несколько обиженный и богомольный вид, поджимала губы и закатывала порою глаза, но в сущности казалась бабой не злой. Она держала себя с некоторой церемонностью, очевидно, желая изобразить собой особу весьма хорошего тона. Подле нее лежал ворох корпии, которую она щипала очень тщательно, с богомольным видом сестры милосердия. Такие же ворохи корпии за этим столом Хвалынцев увидел еще перед двумя или тремя особами. Две дочери — две панны Котырлувны, прилежно занятые шитьем мужских сорочек и портов из самого грубого холста, весьма напоминали собой пухлый, сдобный папушник домашнего печенья. Видно было, что они с младенчества и по сей день отлично выкормлены в деревне на сытых помещичьих хлебах. Из себя довольно крупные, сильно и здорово румяные, востроглазые и смешливые, хотя и не очень-то грациозные, они постарались сразу завладеть Хвалынцевым и, вперебой друг дружке, обратились к нему на польском языке с банальным вопросом: "давно ль он в ихних краях и как нравится ему Польша?" — и только тогда лишь, как заметили, что гость их затрудняется ответом, не вполне точно уяснив себе смысл любезных вопросов, обе решились повторить их на языке французском.
— О, мы вас будем учить по-польски. Непременно будем! — тараторили обе Котырлувны. — И мы вас выучим! наверно выучим! И отлично!.. Ведь вы же кое-что понимаете?.. Это такой прекрасный язык!.. Язык Мицкевича!
— Кое-что — да! — согласился Хвалынцев. — В вашем языке есть много общего с русским…
— Мм… то есть с русинским, или вообще со славянским, но не с московским, pas avec la langue moscovite! — заметили ему на это панны, оставшиеся как будто несколько недовольны тем, что Хвалынцев заявил о сходстве польского языка с русским.
Они, в отношении своего гостя, с первых же минут пустили в ход то особое, не больно хитростное и не больно суразное кокетство, которое свойственно большей части этих паненок, выросших среди деревенских усадеб, промеж окольных заматерелых соседей, и все старающихся копировать, впрочем, по большей части весьма неудачно, одну из героинь Мицкевича, сантиментальную Зосю.[7]
Тут было и стрелянье глазами, и наивничанье, вовсе не наивное, и некоторое жеманство, с претензией походить на грацию котенка; но хорошего во всем этом было, по крайней мере, то, что оно казалось искренно. Видно было, что паненки наскучались в деревне и рады-радехоньки новому человеку, да еще молодому, да еще и столь недурному собой!
Молодой панич, их братец, являл из себя довольно красивого, но упорно молчащего юношу, в длинных сапогах и серой чамарке. Кроме этих лиц, составлявших семейство пана Котырло, тут же находилась еще не то племянница, не то сирота какая-то; потом еще нечто блеклое и сухопарое, вроде бывшей гувернантки, а ныне — род компаньонки или ключницы. И та, и другая сидели за шитьем портов и сорочек, точно так же, как и обе паненки.
Когда Хвалынцев впоследствии, под конец уже вечера, нескромно полюбопытствовал узнать, для чего собственно они в восемь рук столь прилежно занимаются шитьем из столь грубого материала, то они в некотором замешательстве сперва значительно переглянулись между собою, а затем уже одна из паненок ответила ему не совсем-то уверенным голосом:
— Это так… просто, для домашних надобностей… ничего более!
Далее от экс-гувернантки, за тем же столом, скромненько и тихонько сидел какой-то дальний, пожилой и притом бедный родственник, конечно родовитый шляхтич, всегда подобострастный к пану и пани; а потом еще тоже родственник, только уже под стать паничу-сыну, казавшийся чем-то вроде великовозрастного, но некончалого гимназиста, который на все очень добродушно, но очень глупо улыбался и пучил глаза. Но за исключением болтливой гувернантки, все это были лица без речей, служившие лишь для пополнения семейной картины и щипавшие корпию. Они и жили, и пили, и ели в Котырловской усадьбе, выказывая за то своим патронам чувства глубокой почтительности и благодарности, выражавшиеся в гуртовом целовании рук у пана и пани, после каждого завтрака, обеда, чая и ужина, причем, впрочем, экс-гувернантка и пожилой родственник самого пана Котырло лобызали не в руку, а в плечо.
— Как вы хорошо сделали, что приехали именно теперь, а не позже! — застрекотала одна из паненок, обращаясь к обоим приятелям, и потому ухитряясь с необыкновенной быстротой одну и ту же фразу произносить по-польски и тотчас же переводить ее, Хвалынцева ради, по-французски. — Я говорю, что вы необыкновенно хорошо и умно сделали, приехавши теперь: у нас тут послезавтра киермаш, гости понаедут, охоту устроим — вот весело-то будет!.. Я вас заранее ангажирую на первую кадриль, — стрельнула она на Хвалынцева.
— А жалоба? — заметил Свитка, указав глазами на ее траурное платье.
Паненка несколько смутилась.
— Жалобу скинем на этот раз! — храбро поддержала ее сестрица.
— А что скажут? — продолжал Свитка.
— Ай, Иезус!.. "Что скажут"!.. Но мы так давно не танцевали!.. Вы, впрочем, не думайте, чтобы мы были дурные польки! — поспешила она заверить. — О, нет! далеко нет! И вы увидите! Мы вам докажем! Но ведь ужасная же скука, а это так редко удается!.. И, наконец, ведь в Вильне танцевали же все, публично, на Бельмонте, да еще как! Самые знатные дамы!..
— Да, но там была политическая цель! — возражал Свитка. — Там граф Тышкевич делал визиты портному и открыто катался с ним в своем экипаже; там первые аристократки танцевали с мастеровыми, с ремесленниками, с лакеями, даже с сапожниками,[8] но там оно понятно: там дело шло о пропаганде слияния.
— А мы разве не можем устроить то же с нашими хлопами? — восприимчиво подхватила шустрая паненка. — О, непременно устроим! И я заранее предлагаю вам тур вальса на погибель Москвы! Ну-с, посмотрим: как добрый патриот, посмеете ли вы отказаться от этого тура, если он будет предложен вам с такой идеей?
Свитка любезно и смиренно склонил свою голову, в знак покорности и согласия.
"Бедные паненки"! думал про себя Хвалыннцев. "И потанцевать-то им нельзя просто! Даже и под вальс нужна политическая подкладка!"
Сам пан Котырло, под шумок общей болтовни, вставляя время от времени какое-нибудь слово, вопрос или замечание, старался осторожно выщупывать Хвалынцева с более серьезных сторон. Так, между прочим, смесью французского, польского и даже русского языка сообщил он ему, что теперь Литва серьезно взялась за ум, потому времена-де такие: освобождение и прочее, что паны действительно задумывают серьезное слияние с народом, заботятся о народной нравственности, учреждают братства трезвости, устраивают школы, просвещают, вразумляют и прочее.