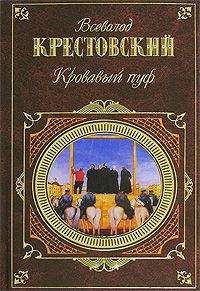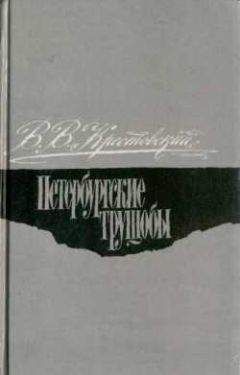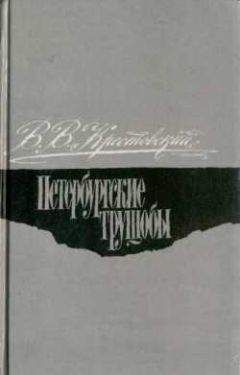Всеволод Крестовский - Кровавый пуф. Книга 2. Две силы
Насколько Хвалынцев мог заметить мельком, там сидело несколько крестьян, и между ними человек лет под сорок, который и наружностью, и манерами своими старался приблизиться к типу мелкого шляхтича-официалиста. По его жилетке и длиннополому сюртуку, по его смазным сапогам, усам и бакам, спускавшимся под подбородок, почти безошибочно можно было заключить, что этот субъект, которого мужики не без некоторой почтительности титуловали "добродеем, мопанковм и паном Михаилом", принадлежит либо к числу приказчиков вотчинной панской конторы, либо же просто к панской дворовой челяди.
— Цяперь ни-ни!.. Цяперь воля! — разглагольствовал один из пьяненьких крестьян, энергически ударяя по краю стола закорузлой ладонью. — Треба тальки Богу та Цару дзяковаць што вызволиу!
— Яб яму ще й больш подзяковау, каб ион мяне вызволиу спад Янкеля! — заметил на это другой, не менее пьяненький крестьянин, намекая не без задней мысли на суетливого корчмаря-еврея. — Спакуль пан не зъеу, то Янкель зъесц! Заусим съесць, бадай яму!..
— Н-н-ну? — гнусаво и не без претензии на амбицию протянул Янкель с характерно еврейской растяжкой и певучестью. — Сказжит спизжалуйста, Янкель изъел. Зацем я тибе изъел и сшто я изъел? Н-н-ну?
— Чаго "ну"! — азартно приподнялся мужик. — Ты у мяне за скольки квартоу мого пол-кавалка зямли на рок узяу? га?.. За дзевяц квартоу? А я цябе засеяу, тай зняу хлеб, тай пазвазиу у пуню за скольки квартоу?.. га?.. За три?.. Уся моя праца тай увесь мой хлеб за двадцать квартоу пайшоу! А цяперь мяне аж на полкварты веры нема! А больш таго праз цябе пропасць повинен и заусим, з дзецями! Усё гаспадарство гэть до черта! А усё праз цябе!
— Не ты адзин, куме! И усе так-то! усе пад Янкелем! и усе спад Янкеля живуць! — примирительно заметил третий, с безнадежностью махнув рукой, словно желая выразить, что таковой порядок вещей предопределен уже свыше непреклонной судьбой и ничего, значит, против него не поделаешь.
— Н-ну-у? Хай зжонка несе сштуку халсцины, я цебе дам аж цалу кварту! — свеликодушничал Янкель.
Мужик только взглянул на него исподлобья и, укоризненно помотав головой, в бессильной и сдержанной злобе отвернулся в сторону. Очевидно, у жинки не было уж в запасе лишней штуки холста, за которую Янкель столь соблазнительно сулил целую кварту водки.
— Павер на бирку? Ну што, бачь, табе! — убеждал Янкеля кум примиритель, которому тоже весьма желательно бы было распить с кумом по лишней чарке.
— На биркэ? — ухмылялся Янкель. — А он-то и сшто такого? — красноречиво указал он на дверной косяк, на котором в длинном ряде сделанных мелом черточек последовательно отмечалось количество отпущенной в долг водки. — Болш на биркэ а ни ниц!
— А скольки ты наддау? Как мы не знали таго! — элегически убеждал кум, намекая корчмарю на самовольные и плутовские прибавки черточек на дверном косяке.
— Н-ну, малчи, сшволачь! — презрительно возвысил тот голос и отвернулся, явно показывая вид, что не намерен долее продолжать разговор с такими грубыми мужиками.
— Пачайкайце, Панове! Я вам пагажду! — вмешался дворовый. — Гей, Янкель! Став кварту за мяне! Дай Боже на здарове панам, бо каб не пан, дак бы и горелки не пакупиць!
— Але?! — протянул один из мужиков, кидая вопросительный взгляд на дворового. — Чи ще й мало было батогоу?
— А што ж ион сблаговол гля цябе?[1] — вступился дворовый.
— А не? не сблаговал? — насупив брови, горячо возразил пьяненький и потому расходившийся кум. — Што было шкоды якой, то усё ад няго! Нада прауду казац! Нас было у бацка три сыны — ледва усих троих у солдаты непоздавау, тай то двох здау, адзин я застауси, бо пад мерку не падайшоу, а тоб бацьку з маткой по миру хадзиць! А скольки батогоу праз его-мосць изъеу! А цеснота, а беднота! А дзеучать скольки пашкодзиу нам? ой, та што там, Боже мой… Млостно й гутариць![2] Пан!.. Не пан а черт ион быу гля нас! От-што!
— Гэто так, так! — одобрительно подтвердили некоторые из состольников; — прауду кажучи, треба вяльми Богу та Цару дзяковац за волю, бо цяперь хоць батожиць, може, не будуць; а й то згодно![3]
— А усё ж без паноу Цар недау бы и воли, бо панам так схацелось, каб хлопи вольны были, от Цар и зрабиу по-паньскому! — наперекор общему мнению возразил дворовый, очевидно принявший на себя защиту панских интересов.
— Ай, што брехаць непутно! — махнув рукой, как на пустые речи, выкрикнул пьяненький кум. — Паны!.. А што ж паны упярод не хацели каб нам воля была, а цяпер удруг схацели яну?.. С чаго ж так?.. Полна, добраздею.
— Наш пан заусягды хацеу! — упорно отстаивал панский защитник.
— Наш пан?.. Ге-ге!
При этом возражении хлопы — себе на уме — только усмехнулись.
— Але! — подтвердил дворовый, — бо йон сильно магущи пан и багат незличито! И есць у няго много й золота, й сяраб-ра, й бумажной манеты, и йон як захоче, то усих сваих хлопоу адзалациць! Нада только з им пакорна абхадзицца та слухац яго воли: што укаже, то й мусим рабиць, и усим нам з таго згода будзе!
— А то так… так, так! — поддакнул и Янкель, — бо взже йон вельки пан! И усшё и сшто захоцыть, то из вам й изделаиць! И сшам пан ассессоржи[4] Асессор — становой пристав. и сшам пан шпраник, и усшё началство зпод пана зживуц, и сшам энгерал-гибернатор из им вельки пшияциулек! Ну-у, и сштошь ви тут говоритю!
— Пачайкайце, Панове! Пачайкайце трошку! — не без некоторой восторженности стал жестикулировать дворовый, возвысив свой голос. — Паны хацяц каб скарейш наврацилася Полыца, и як тольки яна наврацицца, нам усим тоды жицье будзе, як нетреба найлепш![5] уся зямля наша, уся воля наша, ни начальства, ни падушных, ни чего не будзе, а будзем мы усе роуно як паны! Каб тольки Полыца!..
— Полыца!.. Ге-ге! — возразил ничем не довольный и во всем скептичный кум. — Дзед мой помёр ще за й за тридцать рокоу, так я ще тодысь памятую, йон сказувау яка така была та Полыца, бадай яну черци драли! Щей й горш было, як при панщизне!
— Ну, горш панщизны не може й быць! — заметили некоторые.
— А забий мяне Бог, кали не горш! Стары людзи кажуць! Стары людзи не ашукаюць.[6] Яны лепш, як мы памятуюць сабе.
В это время из усадьбы прибежал казачок звать Хвалынцева в дом, так что Константин лишился уже возможности быть невольным слушателем разговоров, имевших для него даже некоторую долю поучительности. Наскоро поправив свой туалет, он пошел вслед за казачком, думая себе: "ну, каков-то этот пан Котырло?"
Пьяные речи корчемной публики намного противоречили тем розовым картинам, которые рисовались столь идиллически-яркими красками в рассказах Василия Свитки. Все то, что из-за полупритворенной двери удалось Хвалынцеву расслушать в этой пьяной, но не лишенной смысла беседе, навело его на некоторые мысли, породившие в душе еще и еще несколько зачатков новых сомнений. Противоречие выходило явное. Свитка говорит, что между хлопом и помещиком дружба, любовь, согласие и взаимная поддержка, а речь подгулявшего хлопа дышит неудержимой ненавистью к благодетелю пану. Свитка говорит, что народ ненавидит русское правительство, а пьяный хлоп тепло благодарит Русского царя за волю, в которой пока еще, — да и то сомнительно, — видит единое лишь благо, что, может, теперь паны не станут уже больше его батожить. Свитка говорит что народ спит и видит, как бы поскорей возвратилась прежняя Польша с ее порядками, а пьяный хлоп проклинает эту желанную Польшу хуже чем недавнюю барщину. Свитка говорит, что у здешнего народа нет ровно ничего общего с народом великорусским, а между тем он, Хвалынцев, отлично с первого разу понимает речь этого народа, которая отличается только некоторыми местными особенностями. Свитка говорит, что здесь везде и во всем чистейшая Польша, веет польский дух, звучит польская речь, а между тем он, Хвалынцев, вместо польской речи слышит белорусский, родственный по духу и смыслу говор; польский же дух находит только в дворовом человеке, да отчасти в шинкаре-еврее, которые оба по своему положению терлись и трутся более около панства, приходят с панством все-таки в большее соприкосновение, чем хлоп-земледелец, и потому действительно заражаются польским духом. — "Но где же здесь собственно Польша?" думает себе Хвалынцев. — Где же она? В этих придорожных крестах? В этом костеле? В этой усадьбе разве?"
Он вступил в широкий, обсаженный пирамидальными тополями панский двор, и встречен был дружным лаем собак, от которых казачок ретиво отмахивался кнутиком, выгадывая таким образом безопасный проход своему спутнику.
IV. "Палац сломяны"
Длинный, низенький, одноэтажный деревянный дом, с высокой соломенной кровлей, бока которой справа и слева были срезаны, — дом с выдающимся посередине крыльцом, которое таким образом делило его посредством сеней на две равные половины, взглянул на Хвалынцева из вечерней мглы рядом освещенных окошек. По сторонам двора, вокруг и около, можно было разглядеть несколько жилых и хозяйственных построек, разбросанных без всякого порядка, в каком-то хаотическом виде.