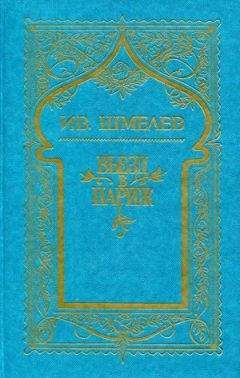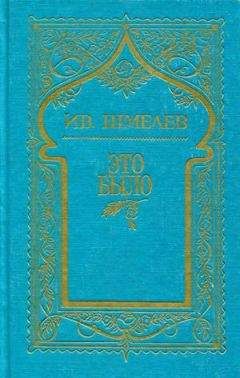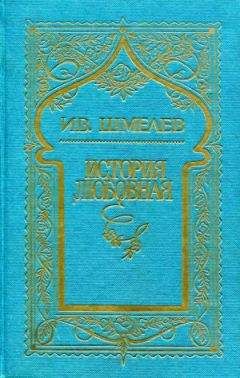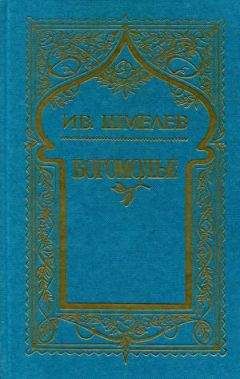Иван Шмелев - Том 1. Солнце мертвых
В первые годы обучения грамоте сильное впечатление производили на меня басни. Читаешь про лисицу и виноград, и ясно-ясно видишь, как эта лисица смотрит, выкатив красный язык, и изо рта у ней текут слюни, и горят глаза. И представляешь яркий, солнечный день. То, что было заключено в буквах, оживало, имело запах, живую форму.
Одиннадцати лет я поступил в гимназию. Здесь меня точно прихлопнуло. Меня подавили холод и сушь. Это самая тяжелая пора моей жизни – первые годы в гимназии. Тяжело говорить. Холодные сухие люди. Слезы. Много слез ночью и днем, много страха.
С поступлением в гимназию мне стала доступной книга. Жюль Верн, Майн Рид, потом Марриэт и Эмар были любимыми писателями. Они открыли передо мной прекрасный мир недосягаемого. Океан и тропические леса. Льды и пустынные берега, просторы и тишина. Отважные честные люди. Благородные храбрецы, герои-индейцы и старые охотники. Там не было холодных мертвых стен, злых глаз, фраков с золотыми пуговицами, пропитанных табаком. Я мечтал быть там с моими любимцами из плотников, ломовиков, сапожников. Там нам было бы славно.
Короленко и Успенский закрепили то, что было затронуто во мне Пушкиным и Крыловым, что я видел из жизни на нашем дворе. Некоторые рассказы из «Записок охотника» соответствовали тому настроению, которое во мне крепло. Это настроение я назову – чувством народности, русскости, родного. Окончательно это чувство во мне закрепил Толстой. Его «Казаки» и «Война и мир» меня закрутили и потрясли. И помню, закончив «Войну и мир», – это было в шестом классе, я впервые почувствовал величие, могучесть и какое-то божественное, что заключено в творениях писателей. Писатель – это величайшее, что есть на земле и в людях. Перед словом писатель я благоговел. И тогда, не навеянное уроками русского языка, а добытое внутренним опытом, встали передо мной как две великие грани Пушкин и Толстой.
Рассказ «Городовой Семен», написанный под впечатлением от рассказа Успенского «Будка», – было сентиментальнейшее произведение, насколько я его помню. Городовой одинок. Он живет в своей будке, в холоде и нужде. С ним дружит фонарщик, тоже обездоленный и калека. Его прогнали с завода, где ему обожгло чугуном ногу. Теперь он влачит жалкое существование. Городовой и он часто ведут беседы о жестокой жизни. Городовой тяготится своей службой, на которую его загнала судьба. Они сговариваются с фонарщиком бросить город и поселиться в деревне. Но злая судьба мешает. Городовой простудился, спасая осенью утопающего на реке, и умирает одинокий в своей будке под вой ветра. Фонарщик ковыляет за дощатым гробом. Возвращается вечерком к тележке с лампами и начинает зажигать огни. Первый фонарь – у знакомой будки. Грустно смотрит он на пустую будку, на фонарь и не зажигает. К чему? Ему теперь не надо света… Перед ним теперь не этот вонючий скупой свет, а вечный… Фонарщик смотрит с перекрестка. В соседнем участке зажигаются огоньки. Ему приходит мысль дерзкая – осветить улицу так, как никогда не освещал из экономии на масле. Нет, пусть в память друга, в память показавшегося ему теперь вечного света, этой ночью вся улица будет гореть ярко-ярко. Пусть… Он зажигает в полный свет, пускает широкие языки пламени. Дальше и дальше, похрамывая, идет со своей лесенкой, и больше и больше свету на улице. Не видно фонарщика. Огни растут, начинают лизать стекла. Улица принимает красноватое освещение. Тишина. Слышно, как начинают лопаться стекла. Коптят огни… Зловеще коптят вонючие огни.
Рассказ заканчивается грустным аккордом. Завтра фонарщика прогонят. И придет на его место другой фонарщик, и будет зажигать исправно вполсвета, и не будут лопаться стекла, и улица будет каждый день в точный час погружаться в обычную тусклоту вполсвета…
Со слезами писал я этот рассказ. Ночью писал. Конечно, этот рассказ мне вернули. Секретарь редакции подмигнул моему гимназическому пальто и сказал, закусывая чай розанчиком:
– Пока слабовато… а ничего…
Пережитый восторг творчества не давал покоя. Я написал юмористический рассказ и понес в «Будильник». Мне прислали в конверте набранный рассказ, перечеркнутый красным карандашом с пометкой: «цензурой не пропущено».
Я решил посвятить себя литературе, закинул учебники и принялся за самообразование. Ночью писал, а днем валялся на кровати, сказавшись больным, и читал до одури. Это было какое-то внежизненное существование. Я писал роман из сибирской жизни, стихи на тридцатилетие освобождения крестьян, драму, в которой он и она помирали от чахотки. Так продолжалось недели две. Меня грозили выкинуть из гимназии за манкировки. Гимназия мне опротивела. Я заявил, что буду учиться сам, один.
И все же пришлось подчиниться. И я бросил свое писание. Только в восьмом классе опять отрыгнулось. Я написал рассказ из народной жизни «У мельницы», и он был напечатан в толстом журнале «Русское обозрение».
Это меня подняло. Но тут ряд событий – университет, женитьба – как-то заслонили мое начинание. И я не придал особое значение тому, что писал. Я чувствовал свою неподготовленность. Я видел и понимал высокие образцы и считал свою литературу – мараньем.
У меня были небольшие средства, и я отдался с остервенением покупке и чтению книг. Бокль, Достоевский, Дарвин, Летурно, Тайлор, Чехов, Островский, иностранные классики, Щедрин, Гончаров. Я увлекался Флобером, Золя, Доде, Мопассаном. Это было не систематическое чтение. Меня увлекали и естественные науки, и Михайловский, и Сеченов, и сельское хозяйство, и электричество. Заканчивая Тимирязева, я открывал историю Соловьева и Ключевского, за ними бросался к Эдгару По, к дебатам по философии, читал Библию и все новое, что появлялось в литературе. Была жажда знания и переживаний.
На втором курсе университета я совершил поездку на Валаам (летом 1895 года), в результате чего появилась книга путевых очерков «На скалах Валаама». Я никуда ее не посылал – издал сам. Изданная без предварительной цензуры, она была задержана по распоряжению Победоносцева. Пришлось вырвать листы и перепечатывать. Журнал «Новое слово» разнес книгу, взглянув на нее с марксистской точки зрения (трактовался вопрос об общине), «Русская мысль» отметила достоинства языка и описаний. Книга села, и я продал ее букинистам. Это меня подкосило, я бросил думать о писательстве.
Университет прошел для меня тускло, незаметно. В кружках я не вращался, в политической жизни не принимал участия. Я все время читал.
На третьем году университетской жизни отсидел три недели в Бутырской тюрьме за участие в демонстрации. Этим и ограничилась моя политическая карьера.
По окончании университета (в 1898 году) отбыл воинскую повинность и зачислился в адвокатуру. Полтора года этой деятельности отравили меня. Пришлось вести борьбу за существование, тяжелую борьбу. Хождение по мировым судьям претило. Шли с делами кляузники. Я чувствовал себя униженным, когда приходилось напоминать какому-нибудь торговцу о забытой пятерке. Вести дела этих людей мне было противно. Я не выдержал и поступил на службу в казенную палату. Служил во Владимире. Семь с половиной лет службы, разъезды по губернии столкнули меня с массой лиц и жизненных положений. Эти семь лет дали мне очень многое, заставили много перечувствовать и многому дать оценку. Служба моя явилась огромным дополнением к тому, что я знал из книг. Это была яркая иллюстрация и одухотворение ранее накопленного материала. Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство.
Зависимость угнетала. Я ждал выхода, какого-то неясного, но чуемого. Мне нужны были средства, чтобы жить, а служить я уже не мог. Я был мертв для службы. Это было второе отравление жизнью, делом, к которому не лежала душа. Я искал выхода.
Движение последних лет как бы приоткрыло мне выход. Меня подняло. Новое забрезжило передо мной, открыло выход давящей тоске и заполнило образовавшуюся в душе пустоту. Я знал, что уже начинаю жить.
В тревоге бродил я по темным комнатам квартиры по вечерам. Надо бросить это нудное чиновничье прозябание.
Помню, в августе 1905 года я долго бродил по лесу. Возвращался домой утомленный и пустой опять в свою темную квартиру. Над моей головой, в небе, тянулся журавлиный косяк. К югу, к солнцу… А здесь надвигается осень, дожди, темнота… И властно стояло в душе моей: надо, надо! Сломать, переломить эту пустую дорогу и идти, идти… на волю…
Я дрожал в каких-то смутных неясных переживаниях. Журавли не уходили из глаз. Я пришел домой.
Вечером в тот же день я почувствовал необходимость писать… И в один вечер написал рассказ «К солнцу». Может быть, потому, что в это время мне были противны люди, я писал о животных, о птицах. Получился рассказ для детей. Я его послал в журнал для юношества, в «Детское чтение». Он был принят. Я немедленно написал другой – из впечатлений поездки на море. Он был принят с удовольствием. Я уже не думал о выходе. Он уже был. Я написал в тот же месяц большую повесть – она пошла, и мне было предложено отдельное издание ее.