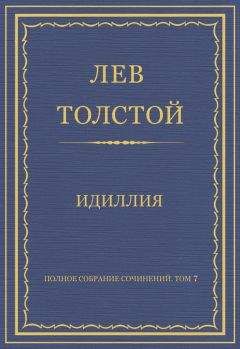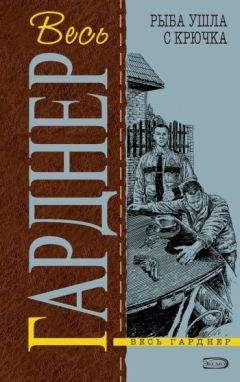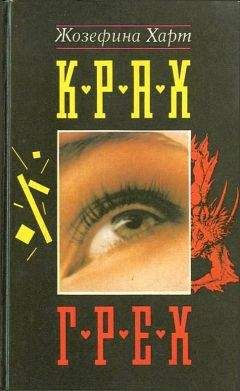Лев Толстой - Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того (Идиллия)
— Братцы, кидай пупом, живо, ведро поставлю.
То-то закипело. А тучка ближе, ближе, ветер поднялся. Залез наверх дворник, на него кидать пошли; борода развевается, не успеет огребать, завалили совсем; вылезет, опять завалят.
— Давай еще! Принимай! Вали с бабой! Круче вывершивай, отопчи, одергивай сверху. Еще осталось много ли?
— Две копны за кустами.
Бабам ехать пришлось — не знают, говорят. Андрюха мой, вижу, ослабел вовсе, бьется, да уж как лист дрожит.
— Ступай, ты знаешь.
А ветер сильней сильней, тучка так и надвигает, борода и рубаха у дворника треплются, как на скворечнице. Обтер пот Андрюха, полез в телегу.
— Давай бабу еще на верх,— кричит.
— Нам давай.
Послали солдатку. Одернули с колес сено. Маланька встала, ухватилась за вожжи, только ноги да груди подрагивают. Андрей, как кулек какой, через кочки треплется. За кусты поехали. Подъехали, слез навивать Андрюха, баба на возу принимать осталась, только посмеивается, глядя на него, ничего не говорит, охапками укладывает по грядкам, на него поглядывает. Хотел он навилину подать, подкосились ноги, упал на сено, моченьки не стало, перестал навивать.
— Что ж ты?
— А вот убью себя. Душегубка ты, вот что, злодейка, да, убью тебя и себе конец сделаю.
Соскочила к нему.
— Что ты, Андрей! Аль одурел, али испортили?
Схватил ее за рученьки.
— Не мучай ты меня, Маланьюшка, мочи моей не стало, али прогони ты меня с глаз своих ясных, не вели ты мне жить на белом свету, али пожалей ты меня сколько-нибудь. Знаю я, что не мне чета за тобой ходить, и хозяин у тебя мужик хороший. Не властен я над собою. Умираю — люблю тебя, свет ты мой ясный.
А сам ухватил ее за руки, заливается плачет.
— Вишь, силы нет навивать, а влип, как репейник, брось, вишь что выдумал. Брось, говорят, вот я хозяину скажу.
— Да ведь ты сама... зачем ты вчера меня целовала?
— Вчера хотелось, а нынче работать нужно. Ну, вставай, брось. Нонче ночь наша будет.
— Правда, Маланьюшка?
— А то разве лгать буду. Правда, что ночь будет. Вишь, дождик. Ну!
Нечего делать, очнулся кой-как, навил воз, перекинул веревку, поехали. Идет подле.
— Не обманешь?
— Верно.
А сама все смеется.
Скидали воз, только успели, а уж дождик крапит. Живо под телеги забился народ, шабаш. Дворниково сено убрали, свое осталось. Делать нечего, пошел народ по домам. Ведь догадалась же, шельма, Андрея оставила с телегой, сама с солдаткой домой пошла. Только вышли, Никифор, что с солдаткой жил, за ними. Отстала солдатка, Маланья одна домой пошла Дождичек прошел, солнышко проглянуло, идти лесом. Маланька разулась, подобрала паневу на голову, идет, ноги белые, стройные, лицо румяное, ну как ни приберется, все красавица красавица и есть.
Тут ее, видно, бог и наказал за все шутки и за Андрюху. Дворник сено гуртовщику запродал и гуртовщика-то в этот самый день звал на покос сено посмотреть. Идет Маланька через поляну и о чем думает, бог ее знает: и солдатка тут с Никифором в голове и Андрюха — сама ушла, и жалко ей крепко Андрюху, и все; идет, видит — навстречу человек на коне верхом едет. Кафтан купеческой, картуз, из кафтана рубаха александрийская, сапоги козловые, конь низовой, молодецкой и на коне седок из себя молодчина — орел, одно слово сказать, толстый, румяный, чернобровый, волоса черные, кудрявые, бородка, усы чуть пробиваются. Едет, трубочку, медью выложенную, покуривает, плеткой ременной помахивает. Из себя, сказать, что красавец, кто его не знал. Маланька не видывала его в жизнь, а мы так коротко знали Матвей Романыча, гуртовщика. Такой шельмы другой, даром что молодой, по всей губернии не было. Насчет ли баб, девок обмануть, скотину чумную спустить, лошадьми барышничать, рощицу где набить, отступного взять — дошлой был, даром что годов 20 с чем, и отец такая же каналья.
— Здравствуй, тетушка, куда бог несет?
А сам поперек дороги стал.
— Домой идем, что дорогу загородил, я и обойду.
Повернул лошадь, за ней поехал. Посмотрит на него баба — орел, думает, это не Андрюхе чета.
— Как тебя зовут, молодайка?
— А тебе на что?
— Да на то, чтобы знать, чья такая красавица бабочка.
— Какая ни есть, да не про тебя. Нечего смеяться-то.
— Какой смеяться. Да я для такой бабочки и ничего не пожалею. Как звать?
— Маланьей. Чего еще нужно?
(Он опять дорогу загородил). Слезать стал.
— Мотри! — да граблями на него.
— А по отчеству как?
— Радивоновна
Слез, пошел с ней рядом.
— Ах, Маланья Радивоновна, хоть бы поотдохнула минутку, уж так-то ты мне полюбилась.
А Маланька как чует чего недоброго, и лестно ей, и любо, и жутко, все скорее шагу прибавляет.
— Ты своей дорогой ступай, а я своей. Вот мужики сзади едут. Тебе дорога туда, а мне сюда.
— Маланья Радивоновна, мне,— говорит,— за тобой не в тягость идти.
Взял из кармана платок красный, достал, ей подает.
— Не нужно мне от тебе ничего, брось.
— Матушка, красавица, Малашенька! — говорит.— Что велишь, то и сделаю, полюби только меня. Как увидал тебя, не знаю, что надо мной сделалось. Красавица ласковая, полюби ты меня!
И бог знает, что с ней сделалось, такая бой-баба с другими. Только потупилась, молчит и сказать ничего не умеет. Схватил он ее за руки.
— Негаданная, незнатая ты моя красавица, Маланья Радивоновна, полюбил я тебя, что силы моей нету. Десять месяцев дома не бывал,— сам бледный как полотенцо стал, глазами блестит,— мочи моей нет. — Сложил руки так-то: Богом прошу тебя,— голос дрожит,— постой на час, сверни ты с дороги, Маланья Радивоновна, утешь ты мои телеса.
Растерялась, только и сказала:
— Ты чужой, я тебя не знаю.
— Я чужой, и стыд с собой увезу.
Да как схватит ее на руки,— мужик здоровый,— понес ее, сердешную.
Разузнал все об ней, где двор и где ночует, вынул кошелек из-за пазухи, достал целковый рубль, дал ей. Взвыла баба:
— Пожалей ты меня, не срами.
— Вот тебе,— говорит,— моя память, а завтра как темно, так я засвищу на задворке.
Проводил ее до выхода из лесу, сел на коня и был таков.
5
Пришла домой, старик, старуха ничего не знают, не ведают, а видят баба другая стала. Ни к чему не возьмется, все куда бегает. Андрюхе еще тошней стало. Пришел он раз к ней на гумно, стал говорить, так как на злодея напустилась, остервенилась вовсе, заплакала даже.
— И не смей ты говорить мне ничего, навязался — черт — пошутить нельзя,— заплакала даже,— от тебя мне горе все.
Ничего не понял, еще тошнее стало Андрею, а все уйти силы нет. Хотел отец его на другое место поставить, много лишков давали, так нет,— говорит,я даром здесь жить стану, а в чужие люди не пойду.
Тут, с этого покоса, и погода переменилась, дожди пошли беспрестанные; которая мужицкая часть осталась, так и сопрела в лугах. Кое-что, кое-что высушили по ригам... С утра и до вечера лило; грязь, ни пахать — из рук соха вырывается, гужи размокают, ни сено убирать, ничего. Идет раз Андрюха в ригу, на барщину, по лужам посклизается, шлепает; видит, баба, накрымшись платком, с хворостиной, голыми ногами по грязи ступает — корову Маланька искала. Дождь так и льет как из ведра целый день, скотину в поле не удержат пастухи. Смотрит, гуртовщик едет, поравнялся с ней.
— Нынче,— говорит.
Маланька голову нагнула. «Так вот кто»,— думает Андрей. Пришел домой, спать не лег, все слушал. Слышит, свистнул кто-то за гумнами. Маланька выскочила, побежала. Пришел Андрей к овину, видит — мужик чужой.
— Ты кто?
— Работник.
— Не сказывай, на двугривенный. — Взял Андрей двугривенный, что станешь делать. Только не Андрей один узнал, стали замечать по деревне: часто наезжает гуртовщик, Маланька с солдаткой бегает. Ну, да мало ли что говорят, верного никто не знал. Приезжает раз Евстрат ночью. Слышал ли он или так,бабы нет.
— Она,— говорят,— на гумно пошла.
Пошел в овин — голоса. Задрожал даже весь. В сарай, глядь — сапоги.
— Эй, кто там? — да дубиной как треснет; дворник в ворота, да бежать. Малашка выскочила в рубахе одной, в ноги.
— Чьи сапоги?
— Виновата.
— Ладно ж, ступай в избу.
А сам сапоги взял, понес. Лег спать один. Утром взял чересседельню свил, видит Андрей. Зазвал бабу в чулан, ну жучить; что больше бьет, то больше сердце расходится. «Не гуляй, не гуляй!»— за волоса да обземь, глаз подбил. А она думает: «В брюхе-то что сидит, не выбьешь».
Мать стала просить. Как крикнет: «Кто меня учить с женой будет!»— что мать застыдилась, прощенья просить стала. Запряг лошадь, поехал с Андреем пахать. Стал допрашивать.
— Ничего не знаю.
Приехал домой, отпряг, баба ужинать собирает — летает, не ходит; умылась, убралась, синяк видно, и не смеет взглянуть. Поужинали. Старики пошли в чулан. Лег на полати, к краю, ничего не говорит.