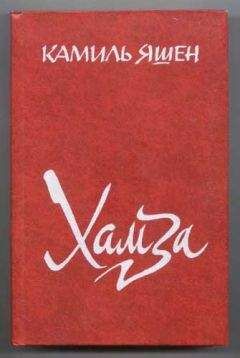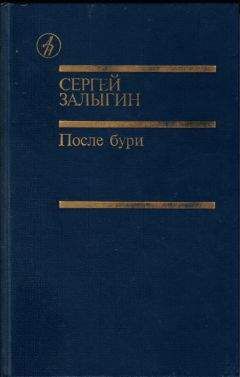Петр Краснов - Ложь
Тетя Маша заревновала. Лиза стала очень красива. Совсем такая, какою была ее мать в ее годы.
Высокая, стройная, в меру полная. Светлые, длинные волосы, заплетенные в две толстые косы, спускаются ниже талии, и, когда спорит о чем-нибудь Лиза с дядей, беспокойно ерзают по ее спине. Голубые глаза загораются синими, влекущими огнями…
Тетя Маша задумалась. Надо что-то делать с Лизой. По-настоящему, по-старинному – замуж пора… Но где женихи? У Лизы есть товарищи, – женихов не было. Лиза бесприданница. Это еще полбеды. Но Лиза – беженка… Русская, без Отечества… без защиты… С такою красотою – она легко может стать добычей любого проходимца, если ее оставить одну. Продолжать жить втроем?.. «Своя рубашка к телу ближе». Тете Маше не выдержать сравнения ее полнеющего, стареющего тела, ее потухших глаз, стриженых полуседых, сивых волос, с красотою распускающегося юного цветка Лизы.
Устроить на службу? Но куда? Брали только своих. Только своим была дорога. Лиза была чужая.
Немка по языку, немка по воспитанию, в душе и чувствах – немка, она была русской и – беженкой…
Наниматься в няни, бонны?.. Приказчицей в магазин?..
Тетя Маша написала обо всем откровенное письмо отцу Лизы, генералу Акантову в Париж.
Ответ получился скорый. Егор Иванович писал, что он сам об этом думал и этим озабочен.
Бисерным своим почерком – тетя Маша читала письмо через лупу – генерал писал:
«…Конечно, положение мое не очень-то завидное. Как пошел я шестнадцать лет тому назад простым рабочим, токарем по металлу, на завод, так и трублю все на том же месте все шестнадцать годов без перемены. Притом тут пошли нам притеснения. Курс тут налево, и нам, «белым» офицерам, нелегко. Однако, думаю – Лизу взять к себе. Уж очень мне одиноко с годами. Последнее время думы у меня разные, тяжелые думы. Не болезнь, а просто – старость. Никогда ничего не боялся, ни в какую мистику не верил, а вот, после похищения Кутепова[8], чувствую и себя как бы непрочным. Вьются подле меня темные силы, ищут схватить и устранить. Всю жизнь жил по указу совести и по приказу начальства. Ныне стал правду искать. Никого эти искания до добра не доводили. Лиза скрасит дни моей жизни, да молодой ее разум, может быть, еще и старого поучит.
Что-нибудь тут ей устроить, думаю, можно будет. Конечно, – доктор философии – pas grande chose[9], по нынешним временам; судомойка или кухарка, особенно кухарка, много лучше. Но, ты пишешь: Лиза знает языки; это уже нечто существенное. Вообще, – хлопочу о визах… Нанимаю квартирку, где нам было бы удобно и не стеснительно, и уповаю на счастье.
Подготовь Лизу; в первых числах сентября сам приеду за ней, чтобы лично поблагодарить тебя и Отто Карловича за все, за все, что вы для Лизы сделали. Я почитаю себя вечным Вашим должником…».
Лиза приняла известие о том, что она поедет к отцу в Париж, спокойно и холодно. Черный, густой намет ресниц поднялся на мгновение, открыв синее пламя глаз, но ресницы сейчас же и притушили это пламя.
– Что ж, – сказала Лиза, закуривая небрежным жестом длинную папиросу, – В Париж, так в Париж… Если ничего лучшего не представится до тех пор.
– На что ты рассчитываешь, Лиза?
Лиза по-мужски затянулась папиросой, выпустила дым в несколько приемов, проткнула его языком, и, любуясь на колеблющееся в воздухе голубоватое кольцо, сказала:
– На людскую честность… На благородство…
– Ах, оставь, Лиза, – сказала с досадою тетя Маша. – Все это тогда, когда есть Родина… Когда ты своя… Но ты беженка… Русская!.. Это ужасно!.. Возможно, что у отца тебе будет лучше. Там много русских. Ты войдешь в русское общество…
– В общество беженцев, – поднимая брови и тщательно притушивая папиросу в фарфоровой пепельнице, сказала Лиза. – А как же – подальше от русских?
Марья Петровна пожала плечами:
– Там это будет не нужно. Этого хотел дядя Отто.
– Допустим, не нужно. Ну, все равно: entweder-oder[10]. Другого выбора нет.
Лиза бросила папиросу и, быстро и твердо шагая, вышла из комнаты тети Маши.
II
Парижский поезд приходил в Берлин в двенадцатом часу ночи. Как было условленно, – Акантов должен был выйти на станции «Зоологический сад», где Лиза его встретит.
Курт Бургермейстер, товарищ детства Лизы по школе; провожал Лизу. Они ехали на трамвае. На остановке у Gedächtniβ Kirche они выходили. Курт спрыгнул с площадки и протянул руку Лизе.
– Danke[11].
Громадное, темное здание церкви, с высокой остроконечной крышей, с башней колокольни, тяжелое и грузное, стояло посредине площади. Колокольня уходила в темное небо. Месяц блестящим диском висел сбоку, как нарисованный на декорации. Пестрые, яркие вывески кинематографов, кафе и ресторанов горели красными, зелеными, синими и белыми огнями.
Особенно бросились в глаза Лизе темно-лиловые, аметистовые огромные окна тяжелого здания напротив церкви. Вдоль карнизов и подоконников, по низким решеткам были цветы. Сквозь просветы улиц, за высокими арками надземных железнодорожных путей чувствовалась прохладная зелень больших, старых деревьев и просторы сада. По широким тротуарам, мимо пестрых огней, шла нарядная толпа. Только что кончились представления в двух громадных кинематографах, и публика расходилась по домам. Посередине улицы в два ряда стояли автомобили-такси с зелеными кузовами, с черным верхом, с пестрым ободком. Площадь была большая, улицы широкие, – а казалось тесно, скученно, уютно, как в комнате, – так громоздки, велики, аляповато нарядны были здания.
– Как сказка, – сказала Лиза, восторгом горящими глазами оглядывая толпу, площадь, огни вывесок и реклам. – Ты любишь, Курт, Берлин?
– Я в нем родился.
– Тебе не грустно, Курт, что я покидаю Берлин? Тебе без меня не будет скучно?
– Человек занятой не имеет времени скучать. Я выхожу на дорогу, где я могу приносить пользу Родине. Я в партии ответственный работник. Я просто не имею права скучать. И разве можно скучать в такой стране, как Германия?..
– Да… Это верно.
Молча, шагая в ногу, прошли к проходам на станцию. У тяжелой, тускло освещенной каменной стены, где были широкие лестницы наверх, Лиза остановилась. Непрерывный поток людей стремился на городскую дорогу.
– О, у нас еще есть время, – сказала Лиза. – Целых десять минут. Мимо, между высоких столбов, проносились автомобили, проходили желтые трамваи, громыхали тяжелые двухэтажные автобусы. Над головами часто с оглушительным грохотом мчались поезда железной дороги.
– Курт, ты не думаешь, что нужно, чтобы я представила тебя моему отцу?..
– Зачем? – раскуривая папиросу, сказал Курт, и протянул свой портсигар Лизе. – Ты не хочешь?..
– Нет. Моему отцу будет неприятно, если он увидит, что я курю… Но, Курт, ты не находишь, что так надо?..
– Не нахожу. Твой отец приезжает на три, четыре дня… Для чего это знакомство? Твой отец русский генерал, я – немец… Что общего между нами?
– Он мой отец…
Лиза с упреком посмотрела в светло-серые, ясные глаза Курта:
– Мне показалось… – начала она и оборвала. – Как хочешь? Если не находишь нужным?.. Не надо.
Зрачки ее глаз расширились, синева потемнела. Огни ли так отразились в глазах Лизы, или свои внутренние огни загорелись в них, – они блеснули мрачным блеском и сейчас же потухли, прикрытые густыми ресницами.
– Как хочешь, – повторила Лиза. – Мне, однако, пора. До свидания, Курт.
Она легко поднималась по крутым серым бетонным ступеням. На площадке остановилась. Курт еще был внизу. Лиза с любовью посмотрела на стройную фигуру высокого молодого человека.
Курт был без шляпы. Густые волосы были гладко причесаны. Просторный, легкий, дорогой пиджак красиво лежал на могучих плечах. Модные, широкие штаны со складкою для пыли внизу, светлые башмаки, – все было дорогое, добротное, новое, хорошо сшитое. На русые волосы от фонаря лег золотистый отблеск. Свежее, чистое лицо было поднято. Курт следил за Лизой.
Лиза остановилась, помахала рукою в кисти; Курт ответил тем же. Лиза вздохнула и бегом поднялась на следующий пролет лестницы. Две минуты оставалось до прихода поезда. Наверху, у турникета, Лиза оглянулась. Курта не было. Он ушел.
Со стесненным болью сердцем от отказа Курта подняться с нею и представиться ее отцу, с волнением от предстоящей встречи, Лиза вошла на перрон. Заграничный поезд, с грозным рокотом колес, подкатывал к станции…
III
В последнем письме отцу Лиза описала свой костюм и шляпу – соломенную с широкими полями, и нарисовала себя, чтобы отцу легче было узнать ее. Она еще обещала держать в руках русскую газету, но, заболтавшись с Куртом, забыла купить ее.
На перроне было мало народа и немного пассажиров вышло из поезда – главная остановка была на Фридрих-штрассе. Лиза сразу увидала вышедшего из вагона третьего класса стройного, хорошо выправленного человека, в черном легком пальто, в мягкой шляпе. Человек этот бодро зашагал по платформе. Она не столько узнала – узнать она не могла: она не помнила отца, – сколько догадалась, что этот человек и есть ее отец. Укрепило ее в догадке еще и то, что человек этот нес в руке довольно объемистый, плоский, видимо, почти пустой, «порт-плэд» из шотландской темно-зеленой, с черными клетками с желтыми полосками материи, стянутый старыми ремнями. Таких порт-плэдов никто заграницей не имеет. Отца Лиза не помнила, а этот порт-плэд отлично запомнила. Как сон, ей припомнилось – отец и мать возились, напихивая вещи в этот порт-плэд, а она, совсем маленькая, кулачками упираясь в шероховатую поверхность его, пыталась им помогать. Отец тогда сказал матери: