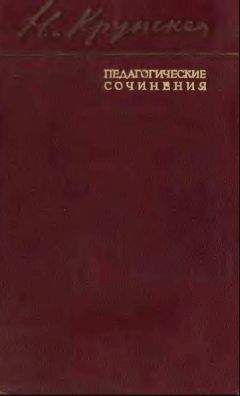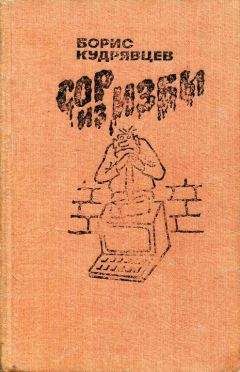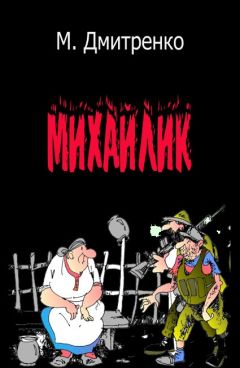Зинаида Гиппиус - Том 7. Мы и они
Андреев мог, конечно, отступиться, мог и совсем свернуть в сторону, обнажив свои коренные недостатки и провалы.
Но как случилось, что его судьи, если даже они компетентны лишь как судьи художественной стороны произведения, – не осудили драму Л. Андреева именно за ее антихудожественность? Критиков для оценки более широкой и полной у нас нет, пускай! Но неужели у нас нет людей, хотя бы понимающих искусство как искусство, отличающих тут черное от белого? Самого примитивного понятия о том, что такое искусство, достаточно, чтобы отвергнуть эту драму. О ней не может быть двух мнений.
Невольно приходит мысль: да уж есть ли, было ли у нас «искусство», была ли когда-нибудь «литература», в собственном смысле слова? У нас есть художники, мыслители, писатели, – а искусства нет. У нас есть гении, есть таланты, большие и малые, таланты-самородки, – а искусства нет. Искусство создается работой, культурой и средой. У нас ничего этого еще пока не было, – не удивительно, если нет искусства. Отдельные таланты у нас до сих пор погибали почти без плода. Художнику нужен свой воздух и свет, чтобы жить, расти. А не то он вспыхнет искрой – и не разгорится, и вокруг себя ничего не зажжет. Да еще иной, помельче, и сам замучается, слепо ворочая глыбы темных вопросов. Поразительно слабо у нас движение, развитие идейное, без которого невозможно и движение культурное! И ведь идеи есть: в какой другой стране были отдельные личности с такими непомерными идеями, именно «идеями»? В одном Достоевском только – уже был весь Ницше, да и на многих будущих Ницше хватит Достоевского. Но сказанное так ясно, так полно и вечно – лежит камнем, и никто даже не пытается поднять этот камень, не видит его, не знает ничего. Жизнь шла сама по себе, а писатели писали сами по себе. Русский ли человек тут причиной, русский ли писатель или русская действительность, кто решит?
Но прошлое все же обещало нам больше, чем дало настоящее. Как ни одиноки были наши гении и таланты, как ни незаметно светлел воздух, но все же он светлел, и какая-то потенциальность развития, нарождения среды все же там была. Искусство, идейность, осмысленность, культура – хотели родиться. Даже в течении «декадентском» 95-900-х годов брезжило нечто положительное. Декадентство было подполье, но из него предчувствовался выход. В подполье, может быть, нужно спуститься, пройти и выйти. Но тут что-то случилось. Декадентство смялось, оборвалось, распалось и… начался (по меткому выражению одного современного рецензента) – «декаданс декаданса». Пустое место заполнилось: образовалась лжесреда. Появилась и «культурность», и «искусство», и «метафизика», – и они страшнее прежней пустоты, ибо прежде мы имели «а-культурность», «а-искусство», – а теперь антиискусство и антикультурность. И отнюдь не в общественной жизни, в жизни «всех», которая пока все еще только бескультурна и безыдейна, но именно среди прежнего «цвета» нашего общества, среди людей мыслящих и творящих в области искусства.
Тут начался период возрождения… варварства. Невежество и грубость, называющие себя высшим знанием и утонченностью, гораздо опаснее просто невежества и просто грубости: эти, в конце концов, скромны. Кто знает, что он не знает, – тот может еще научиться, а кто, будучи наг, думает, что одет в порфиру и виссон, тот так и будет щеголять голым, тому – «каюк». Посмотрите наши «художественные» и «литературные» журналы, вглядитесь в «культурную» и «литературную» жизнь наших центров за последний год. Вы увидите, что «декаданс декаданса» расползся гораздо шире сейчас, нежели просто «декаданс» за все время своего существования. Правда, эта лжекультурная среда оторвана резко от вскипающего, еще бескультурного, еще пока безыдейного движения общественной жизни, от «всей России» – движения праведного, потому что в нем нет лжи, а есть невскрытая правда. Эта «среда» – сравнительное ничтожество. Но зато все писатели и художники, все работающие в данный момент в области искусства и литературы, от бездарного до талантливого, так или иначе соприкасаются именно с этой ложной средой, барахтаются в этой луже. Косяками идут туда «молодые»; по, конечно, попав туда слишком рано, ни один из них, даже с задатками таланта, не выработается в действительно талантливого писателя. И понятно, что идут «косяками»: истинное – редко и трудно, а псевдоискусство, псевдокрасота – общедоступны, приятно легки.
Леонид Андреев дал лучшие свои вещи еще свободно, еще до создания лжесреды. Но скажем ли с уверенностью, что его эта среда «заела»? Может быть, в самом его таланте, как в талантах других современных писателей, уже был заложен его печальный конец? Может быть, и он, как другие, сам же и послужил для создания и преуспеяния «декаданса декаданса». Но это все равно. Одно несомненно: каковы прихожане – таков приход; каковы попы – таковы и проповеди. Участники направления антихудожественного не могут не давать вещей не антихудожественных. И «Жизнь Человека» не могла не быть вещью хуже, чем бездарной и неумной – неумной со всеми претензиями на художественность и глубокомыслие, то есть – бездарной с обманом.
Впрочем, какое нам утешение знать, что иначе и быть не может? Жаль, жаль до боли всех: и русских литераторов, и возможную русскую литературу, в частности и Леонида Андреева со всей его беспомощностью, и «косяки» молодых, с детской жадностью кидающихся… уже не в подполье, а в болото… Оно затянуто яркой травкой. А на дне – происходит страшная, отвратительная и смешная пляска: там венчаются, сочетаются, смешиваются уже не «жид с лягушкою», это бы ничего, а невинное слово с безобразным делом, святые имена с рабьими костями, богоборчество с кощунством, мифология с развратишком, творчество с плагиатом, возрождение с варварством, филология с физиологией, экстаз с расчетом, искусство – с проституцией…
Страшно, и если страшно не последним страхом, – то лишь потому, что все это невыразимо скучно; да и пахнет уж очень обыкновенной скверностью. Даже не духом, а душком небытия, мертвечинкой. А Россия с ее Пушкиными и Достоевскими, с ее громадной, полуслепой пока трагичностью общественной – еще жива. Еще ой-ой как жива! Запоет петух – и провалится болотное дно, уйдет в последнюю темноту со всеми плясунами, с виновными и… невинными (сами виноваты, не рассчитали!). Оставшиеся – не все даже заметят, что кем-то стало меньше…
Поскорее бы, однако, провалилось. Идет-таки от него, – иногда, под вечер, – заразительный смрад.
На острие*
1907
Л. Андреев с его «Человеком» завел меня в широкие общие рассуждения. Вернемся от литературы к литературе, к другому современному беллетристу Сергееву-Ценскому.
Он моложе Андреева – он еще не дошел до порабощения своего таланта мертвому духу лжесреды, он еще свободен, он еще пока – художник. Но, конечно, и Сергеев-Ценский – писатель современный, стилем своим и всем уклоном приближающийся к другим писателям дней именно наших. Он – офицер того же полка, где был генералом Андреев, где Зайцев – унтер с нашивкой и где есть такие несчастные рядовые, старательные и самодовольные, но совершенно неспособные, как Осип Дымов и другие. Сергеев-Ценский – настоящий офицер; Зайцеву, сколько бы он ни получал нашивок, до него не дослужиться. Язык Сергеева-Ценского – богат почти без риторики, выпукло-ярок до грубости, которая не переходит, однако, в антихудожественность; главное же – он чрезвычайно гармонирует с внутренним содержанием таланта Сергеева-Ценского, с основной, резко определенной, вечно одной и той же мыслью автора. Она не утомляет, потому что широка; ее можно бы назвать идеей, – если бы она, в конце концов, по свойству своему, могла привести куда-нибудь, кроме тупика. Но она ведет именно в тупик… если, конечно, взять ее как последнюю в ее победе; принять ее за последний синтез.
Мысль эта со всей определенностью уже выразилась чуть ли не в первом рассказе Ценского, напечатанном года четыре тому назад в журнале «Новый путь». Рассказ вошел и в «Сборник». Рассказ – не из лучших; язык еще не вполне выработан, но уже весь Ценский тут. Уже мчится, бессмысленно хлеща лошадей, невинный человек, помещик, любящий отец и муж, мчится прямо в снежную, черную сильную бурю, дико повторяя: «Все у меня умерли! Все с ума сошли!» Недаром только что бедный уральский родственник-прихлебатель тупо ныл перед ним: «Где не ждешь, тут тебя и кокнет. Непременно тебя кокнет».
Все умерли, все с ума сошли, все погибли самым безобразным, бессмысленным, грязным и отвратительным образом, и… что ж это такое? Ведь я же этого не хочу? Вот в этом, тайном, но несомненном вопросе Сергеева-Ценского – еще надежда на спасение от тупика. Есть борьба, есть трагедия, – писатель-человек еще не успокоился на разрешении ужаса жизни – просто неподвижным утверждением ужаса. Ценский, ненавидя мир, – любит его; любит так же глубоко, как ненавидит. И даже, – я утверждаю, – он идет из любви, как из первого данного. Не люби он мира, он, может быть, и не увидел бы так ярко всех его ужасов, не сумел бы так ненавидеть. «Мир ужасен, проклят, бессмыслен, главное – бессмыслен…» – кричит нам Ценский и тут же, словно про себя, шепчет: «А я этого не хочу!..» Вся трагедия этого писателя, отнюдь не первоклассного, но яркого и характерного для времен наших, вот в чем: он, по завету Достоевского, полюбил жизнь прежде смысла ее. Но не заведомо же бессмысленную жизнь начинаем мы любить: мы начинаем любить жизнь только прежде знания ее смысла, но уже в любви нашей – вера, что смысл есть, что через любовь он откроется. Сергеев-Ценский полюбил мир, жизнь – настоящей любовью, с верой в смысл, и… вот, смысла ее еще не нашел и еще видит непереносной, невозможный мрак бессмыслия, «баню с пауками». Что ж с этим делать? Чему же верить? Если все-таки любви своей, – то искать, искать, не боясь пауков, через всех пауков искать этого необходимого «смысла», который должен же быть! А если первому взору поверить, глазам своим, – то уж, конечно, отказаться прежде всего от любви, наполнить душу однообразным, тепловатым отчаянием, лечь под лавку в избе, а пауки тебя будут есть. И пусть едят. В конце концов, – я не спорю, – тут можно дойти до известного бессмысленного сладострастьица, а уж до самодовольства средней руки – наверно. Но и человеку, и художнику – обоим – непременно конец.