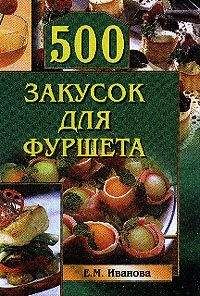Андрей Соболь - Человек за бортом
Перекрестил дед на дорогу; язычник, а перекрестил: последний внук.
— Мальчик мой… Вернешься?
— Не знаю, дед, не знаю. Смыло меня волной. А казалось, корабль надежный, верный. Дед, и круга спасательного у меня нет, и лодки не видать. Не спрашивай, дед.
А за бородой седой встала другая — белокурая, благообразная, нос, перехваченный очками. Очки не съезжают, солидно сидят, как солидно и веско рассуждает лоб земско-статистический, знающий досконально, сколько безлошадных в Самарской и сколько на хуторах в Симбирской.
Слегка отощал Корней Петрович, чуть ярче обычного тусклые глаза; когда снимает очки и протирает стеклянные завесы — будто огонек голодный шевелится, но оседлан нос — и по-прежнему ровен Корней Петрович и по-старому знает, куда надо путь держать.
С белокурым земским начетчиком разговор короткий, на ходу — пивной нет, из тех, из классических, когда под машину, под «Лучинушку» планы составлялись и, между прочим, о Боге. Планы остались, но разговор по-иному — на лестнице, между третьей и четвертой ступеньками.
— Не хочу. Ни поручений, ни директив. Ничего.
Между пятой и шестой ступеньками пытается Корней Петрович уговорить, на седьмой доказывает, что нужен Игорь на Украине дозарезу, что в Киеве ждут его и не дождутся, на восьмой выписывает дислокацию, на девятой перебрасывает отряды, на десятой упрекает в измене прошлому, в расхлябанности, пробирается к трусости, к шкурничеству.
Но одиннадцатая ступенька скользкая — и падает Корней Петрович, твердокаменные очки превращаются в беспочвенные, несутся с переносицы. И ловит, и ловит их панически Корней Петрович, обомлев, вспоминая мигом, что конец частной торговле, что оптическим тоже каюк.
А поднялся со ступеньки — Игоря нет.
Свернул дислокацию, припрятал плацдарм, оглянулся, не следят ли, и пошел, не спеша, к Воздвиженке — за стеклами выпуклыми огонек голодный.
За Воздвиженкой, в переулочке, печати, бланки, адреса, последняя банка маринованных огурцов, огрызок головки сыра и Мальвина Сергеевна — бывший городской голова города Ахтырки, девица лет тридцати трех, с челкой, одинокая: ни любимого, ни ребенка, только томик Блока да список арестованных.
Там временно похоронили Игоря: Корней Петрович еще надеялся, что воскреснет, образумится; втихомолку всплакнул бывший городской голова, Корней Петрович готовил очередную тайную почту на Волгу.
…По первопутку ехал Игорь к Брянскому вокзалу, по белому московскому пустырю, точно плыл по морю безлюдному, по барашкам, по белым гребням.
И утро раннее было такое чистое, такое прозрачное, что сердцу становилось больно.
А за ним — к низу, дальше — умирала старая Москва.
Глава третья
Если твой правый глаз смущает тебя — вырви его, — надо вырвать, нужно, нужно забыть, что есть в Москве Большой Афанасьевский переулок, в глубине двора флигелек, в глубине флигелька постель, а в постели ушедшая в бред стриженая голова.
Все в глубине — все в глубину.
И только взглянув на губы упорные — ах, как умели целовать они, — упорные даже в смертный час, уйти навсегда, по дорожке, травой поросшей, к воротам, от ворот…
Поворот — и, ночами дни сменяя и днями ночи сменяя, знать, что не вольна ты над собой, не вольна вернуться, не вольна в любимые глаза поглядеть, гадая в час вечерний, гадая в час утренний, болью исходя неизбывной, открыты ли серые с зелеными точечками или подернулись ненарушимой пеленой.
Знать, что затрясутся, закачаются, опрокинутся все переулочки, все тупички московские (и Афанасьевский с флигельком в глубине), — и не сметь руку протянуть, ты, щепочка маленькая, в водоверть попавшая, водовертью уносимая.
Янек говорит:
— Я благословляю революцию.
Да-да, благословенно имя ее, каждый шаг ее, но как, как заставить сердце бедное, сердце женское замолчать!
Янек раз навсегда сжал кулаки, Янек знает, что надо убивать врагов, беспощадно давить их, как давят клопов, сметать с пути клопиные шкурки, всю нечисть, чтоб заново перепахать человеческую землю. Для Янека нет колебаний: тиха украинская ночь — чушь, дребедень: украинское собачье болото — и надо перевернуть его вверх дном, перекатавасить, чтоб этому самому тихому небу жутко стало, уж коли пошла водоверть — так пусть бурлит вовсю — несокрушимая, неуемная. Да-да, чудесно имя твое, водоверть великая, но как, но как заставить сердце в муке двойной, в двух изгибах раненное, застыть, замереть — десять шагов от флигелька к воротам, десять раз упасть, десять раз подняться, и каждый раз, и на каждом шагу пыльную траву, вялую, дворика на Большом Афанасьевском, ожечь таким огнем глаз, рук, ног, словно не человек прошел от крыльца к воротам, а пламенный язык лизнул дорожку.
Хлопнула калитка, собачонка лениво хрипнула в соседнем дворе — все в глубине, в глубине: флигелек, кровать, голова бритая, любовь, ночи совместные, — плещется неукротимый вал по серо-пыльной Москве, перекатывается по всем семи холмам — (новый Рим, чумазый, кожаный) — несется к заставам, к Семеновским, к Рогожским, к Даниловским.
Дальше, дальше — по железным рельсам, по трактам, по лесным дорожкам, пригибая к земле тощие колосья, обдавая соломенные крыши — извечные, станционные будки, широкие окна вокзалов, оплескивая овраги, буераки, села, закопченные депо, крутясь по мостам, обвиваясь вокруг балок, стропил, шаланд, добираясь к церковным крестам, стуча гребнем острым, колким о стены заводов, школ, фабрик, банков, особняков, музеев, дворцов, публичных домов, крутясь, вздымаясь, свиваясь, расступаясь бездной, вставая горой — все дальше, все шире и глубже, кромсая, извергая, долбя, низвергая, сталкивая.
И знать, и знать, что не вольна ты над собой, не вольна вернуться, не вольна к желанным рукам прильнуть — ты, щепочка маленькая, в водоверть попавшая, водовертью унесенная.
Вот и понеслась, вот и унеслась от калитки хлопнувшей. Платком стянуто лицо побледневшее, опавшее, полтавской мещаночкой пробирается на родину, втиснута в неразбериху плеч, спин, рук, бород, мешков, корзин…
Стонут буфера под грудой сапог, лаптей…
А поля-то все тянутся — измочаленные, сивые.
Шевелятся комки живые, иные вялые, как жуки навозные к вечеру, иные напористые, пружинистые: то сожмутся, то вдруг шириться начинают.
Над потным мясом, грязным, прелым, дым махорочный, запах рассола огуречного; на трехэтажных скамьях гирляндами вниз свисают голые пятки, облупленные, заскорузлые ногти вовнутрь завороченные, черные штанины, подолы, порыжевшие голенища с отдушинами, а за окнами — дырами без стекол — проволочная вязь все вяжется да вяжется рукой европейской мастерицы.
Дребезжат манерки, чайники на веревочках, на ремешках; сверху желтыми оваликами летит шелуха тыквенных семян, осыпая плечи, кудлатые головы, очипки, картузы, фуражки внизу лежащих, внизу стоящих, сидящих — сдавленных, придавленных, стиснутых, — посев русский, неуклонный, беспристрастный, с пузырьками слюны, с крапинками махорочных окурков.
Оттиснули от Янека, до Шелапугина не добраться, даже не видать, между какими шинелями и мешками, в каком месте пошел он ко дну досчатому. Но медвежьи плечи Янека и усы его старорежимно-фельдфебельские высятся над грядой черных, соломенно-рыжих, светло-пепельных и бурых голов, точно раскинулся столетний дуб на холме, поверх деревенских изб, овинов и ометов.
Когда подъезжали к Брянску, вынырнул Шелапугин — почерневший, с помутневшим взором; успел только проговорить, что надавили слишком — и стал оседать…
Янек зашевелил плечами, торчком встали фельдфебельские усы; в угрозе — сбоку, сзади, справа, слева — насторожились кулаки, дробней застучали чайники, фальцет запел сверху:
— А ты его, сукиного кацапа, по паспортной примете. — И два сапога под широчайшими галифе ринулись вниз на подмогу.
Завизжала, кудахтая, курносая баба, рядом сидевшая наседкой над своими узелками; отозвалась припадочно вторая, третья…
По чужим спинам протаскивал Янек Шелапугина; выуживая из мешанины Лиду, освобождал уголок. Грохотали басы, заливался фальцет, но галифе уже обратно карабкались наверх, и на нет сходили наседки, туже стягивая к подбородку платочки: складывая крылья.
Хрипя, скрючившись, лежал Шелапугин, моталась голова на коленях Лиды — вагон подпрыгивал, точно жалили его раскаленные рельсы, осы стальные.
— Янек, воды бы ему.
Пушистые усы стрельнули влево, вправо и обмякли в плену вспотевших, разбухших, друг на друга наползающих тел — упорных, напорных, звериных.
Шелапугин застонал; нагнувшись, Лида услыхала детское, жалобное:
— Во-оды…
— Янек!
Янек багровел, покусывая кончики усов, Лида прикрыла глаза. А поля-то, поля-то все тянулись да тянулись — серые, изъеденные зноем, понурые.