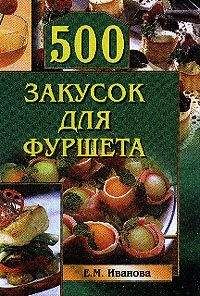Андрей Соболь - Человек за бортом
— Поздравляю тебя, дед. Теперь ты вроде шишки. Племянница — комиссар. Ответственная работница. Россия может быть спокойна. У социалистической республики есть надежный защитник. Товарищ Лида выручит. Товарищ Лида…
— Ты обещал, ты честное слово дал…
— Лежать, дед, лежать. Но восторгаться можно? Теперь ты можешь быть спокоен. Можешь продолжать свою работу. Картин твоих не тронут, книг не отберут — есть рука.
— Мальчик мой, как тебе не…
— Молчи, дед: стыдно. Молчи, не буду больше.
И вдруг летит подушка, стремглав, вниз, и голова бритая мечется поверху.
— Дед, ради бога… Скажи правду, не лги. Дед, не смей меня обманывать. Приходили за мной? Приходили? И Лида. Протекцию оказала? Заступилась за прежнего любовника? Из-за нее не тронули? Дед, ради бога, отвечай!
К бритой, пламенем взбаламученной голове прижалась седая длинная борода; в седых волосах холодок мудрый — утихомирились горячие виски, брови разъяренные вновь улеглись.
— Верю тебе, дед.
— He упрекай ее, мальчик мой.
— А, старческая кашица: все бывает, Бен-Акиба.
— Ты злой, Горя.
— Я не упрекаю тебя, дед. Я аплодирую. Я радуюсь за Россию. Дед, ты академик, тебя вся Европа знает. В Италии, говорят, ты числишься почетным гражданином города одного. Я, дед… Я, дед, не знаю, почему Боттичелли выше Гвидо Рени, но за Россию новую я восемнадцать лет жизни отдал. Со школьной скамьи в Сибирь. Дед, я любил женщин, новые страны, вино. Я часто падал, не раз спотыкался. Но служил я верно только революции. Вот она пришла — а я за бортом. Дед, а вот Лида… Дед, и она меня за борт. Все отбросила — меня, любовь свою.
— Ты не знаешь…
— Знаю, дед. Все кинула — и ушла без оглядки. И пойдет без оглядки, ни перед чем не остановится. Дед, присядь ближе… Вот так…
— Мальчик мой, мальчик мой…
— Тебя не стыжусь. Дед, как больно!..
Стучит да постукивает дождик арбатский, осенние скупые слезы размазывает по мутным стеклам — мутный вечер бредет, старенький; стук дождя — стук посошка — дорогу нащупывает, чтоб не сбиться сослепу.
— Дед!
— Спи, спи, родной.
— Не могу… Не уговаривай… Дед, а не думаешь ли ты, что она дальновиднее меня оказалась? Она полуженщина. Ты в счет не идешь. Ты не от мира сего… Нашего, в крови, в мерзости. Ты — чудесный гробокопатель, ты за мизинец мраморный отдашь революции всего мира.
— Хе-хе… уж ты скажешь.
— Дальновиднее меня. Меня, извините за выражение, защитника угнетенных масс. Чутьем дальнее почувствовала. Душой увидела просвет. Мы… щурились, прищуривались, — не запачкать бы чистых одеяний. А она широко раскрыла глаза, не убоявшись ни крови, ни грязи, ни навоза. Дед, дед, булка с маслом!
— Что? Что?
— Дед, белые булки — белые сдобные булки. Она к черному хлебу. С черным хлебом к дальнему граду. Мы с булками червям на съедение…
— Горя… Мальчик…
— Дед, дай мне булку. Дай мне белую булку. Дед, я российский интеллигент. Я не могу без булки. Я люблю «Русские ведомости» и белую булку. Осыпьте меня… Дед, скорее… Осыпьте меня белыми булками. Булку в зубы… Булку в руки. На знамени белая булка… Дед… черт вас возьми, булку мне! Своло… Булку. Булку. А-а-а!.. Бу-у-ул-ку!..
Глава вторая
Забесновался, завертелся, все шибче и шибче, вниз срываясь, потолок, падая отвесно, тараня стены, а за потолком помчался дед, за дедом Лида — летняя, давняя, в шляпке, повитой ромашкой, а за Лидой каравай черный, по краям обугленный, от каравая усы длинные побежали — тараканище аршинный полез к кровати.
И навалился на Игоря ржаной тараканище, пудовый, грудь придавливая, — и поддалась грудь, и кровать рухнула, и стал Игорь падать, падать…
Падая, ухватился за один ус: хотя противно, а нужна зацепа; ухватился, а глянул: не ус, а дедушкина серебряная борода.
И вернулся потолок к месту своему назначенному, а за окнами уже грудами лежали опавшие листья, и голый Пречистенский бульвар ждал новых белых мух.
По первопутку ехал к Брянскому вокзалу, ранним утром, таким безбурным и прозрачным, что сердцу больно становилось, дорогой такой чистой, белой, что ранила взор каждая колея от телеги — ненужная, лишняя, каждый досадливый след редкого прохожего.
Смоленский расстилался вольно, просторно: белая пустыня; по карнизам заколоченных магазинов прыгали воробьи; к распределителю на углу Плющихи ни шатко ни валко плелись платки, кацавейки, картузы, дремали трамвайные рельсы — дрема первых зимних дней, от дремы к долгому сну без звонков, без лязга буферов.
А позади — к низу, дальше — умирал Китай-город, цепенели Торговые ряды, никла Ильинка, монашенкой постной прежняя дебелая, румяная, крикливая грудастая бабеха, на Кузнецком снимали вывески — протянулись вдоль и поперек сизые полосы, точно в опустевшем барском доме сдирали обои для будущего ремонта, летнего, на Лубянке фыркали по-звериному мотоциклетки, на Красной площади Минин-Сухорукий потрясал красным флагом — сухорукая, железная рука не дрожала, в Кремле стучали машинки, и стук каждой клавиши грохотом отдавался в Киеве, в Иркутске, в Берлине, в Париже, в Лондоне, в Токио.
На Тверской, на Балчуге, на Воздвиженке, на Коровьем валу белели декреты; один сменялся другим — мелькали, точно карты в колоде, тасовали их с утра до утра, беспрестанно, без передышки, бросая их вправо, влево, невозмутимо, непреложно — три карты, три карты…
— Ва-банк! — кривились в Киеве, ночью, в дымовом угаре «Би-ба-бо», под цыганское пение, под звон шпор, под сладенькие речитативы Вертинского, бок о бок с хозяином крепким — лейтенантом фон Бельзе.
Плечо о плечо кокотки, члены Учредительного, профессора римского права, графиня без поместий, помещик без крестьян, австрийские агенты, сыщики в безукоризненных пластронах, журналисты из «Биржевки», пристав из варты, поэтесса-лесбийка, шулер из Одессы, поэт-гомосексуалист в оранжевом жилете, петлюровский соглядатай, вербовщик с Дона, предводители дворянства, иваново-вознесенские миткальщики.
— Ва-банк! — выплескивая шампанское, ипотечные, субсидии, лозунги, мальцевские, сормовские, девизы, десятины, заветы, мельницы, бриллианты любовниц, курульные кресла, жалованные портсигары, коньяк, желчь, немецкие марки, австрийские кроны, опереточные карбованцы.
На Пресне, на Знаменке белели декреты — красные волны перекатывались по земному шару.
Из орбит вылезали глаза, вытягивались шеи, жадно высматривая, передергивались пальцы — вот-вот, осязая, чувствуя, — и глаза, и шеи, и пальцы все туда, все к Москве. И — от моря до моря грохотало:
— Го, го! Ставок больше нет!
— Бита! — ликовали в Париже, выходя на рассвете из кафе Риш, покачиваясь рессорно от токайского и достоверных сообщений из Москвы.
На rue Crenelle у письменных столов лихорадочно заготовляли бумаги с надлежащими ответственными всероссийскими подписями, улыбались заискивающе мсье… тому самому, который…
С черного крыльца забегали к депутатам, к отставным министрам, к будущим министрам, к настоящим, интервьюировали генералов, консьержей, куплетистов из Монако, мозольных операторов.
— Бита! — подкупали рыжую без перекиси, знаменитую своими черными пучками волос под мышками Еву Мантуа из «Альгамбры» — любовницу всесильного по пушечной части, обещали собольи меха, голубых лисиц законным супругам, полузаконным сожительницам передовиков-фельетонистов, подносили футляры с содержимым морганатическим женам консервных фабрикантов, почтительно, но пока еще не теряя барского достоинства, поддерживали под руку биржевиков, маклеров.
На старых эмигрантских улочках, памятных еще с 1905 года, — на Глясьерках, на Газанах говорили о социализме, о поруганной свободе, плакали за мужичков и всеобщее равное тайное.
На Каланчевской, на Кудринской, на Моховой белели декреты — четырехугольные листочки, а в Киеве, в Чите, в Берлине кровью наливались глаза, красные круги плыли перед глазами, черные строки красным расплывались.
— Бита!
— Ва-банк!
— Бита!
— Будет бита!
А листочки из типографий комхоза, из типографий наркоматов тасовались, тасовались — и не уставала рука тасующего.
Следили с севера, с юга, всматривались с запада, с востока.
И от столицы к столице, через столицу к столице, торжествуя, ликуя, предвкушая, бухало:
— Ставок больше нет!
Мсье… тот самый, который… с грацией непревзойденного крупье бросает долгожданный точеный шарик…
Крутится, вертится… вертится, крутится. Чет-нечет, красное, черное.
И плыли пушки в Архангельск, танки переправлялись во Владивосток, доллары, инструкторы, пулеметы, презервативы, седла, франки, винтовки, коньяк, фунты перебрасывались в Крым, в Сибирь, на Волгу, в Тифлис, на Дон, на Кубань.
…По первопутку ехал к Брянскому вокзалу. Остался лед позади, борода мудрая, глаза добрые, цвета полинявшего старинного голубого шелка.