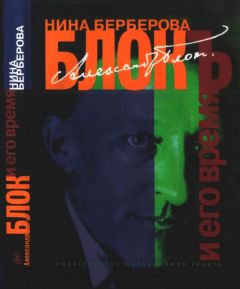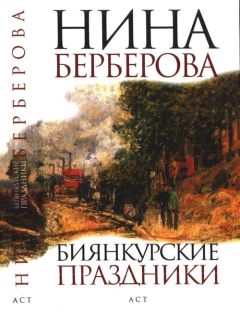Нина Берберова - Курсив мой (Часть 5-7)
Остается один барабанщик
Сад закрыт
Так несколько раз в жизни я начинала стихотворение и бросала его главным образом потому, что ведь и он в конце концов не остался, а тоже ушел домой и все кончилось.
Но была, кроме этих двух причин, еще и третья, и она-то, как мне кажется сейчас, и была решающей Большинство из нас, во всяком случае большинство "молодых" - и в том числе я, - с благодарностью и благоговением брали от Франции, что могли. Все мы брали разное, но с одинаковой жадностью: одни брали Валери и Жида, другие - Франса и Дюамеля, третьи Маритена, четвертые - Мориака и Грина, пятые - Бодлера и Верлена. Между двумя войнами нам было из чего выбирать: Алданову и Ремизову, Бердяеву и Ходасевичу, Поплавскому и Набокову было что "клевать", и не только клевать, но и кормить своих детенышей. Начиная с 1945 года все изменилось: там, где еще недавно добывалась "интеллектуальная пища", ее больше не было, и ее отсутствие прямым путем вело меня к духовному голоду и обывательщине.
Я употребляю слова "пища" и "голод" с тайной целью возвратить этим штампам их первоначальный смысл, в котором они были произнесены Платоном и Данте. Первый в VII Послании говорил о том, что в процессе передачи истинного знания одним человеком другому есть нечто неуловимое:
"Это знание не может быть выражено словами... но в общих усилиях учителя и ученика оно внезапно рождается в душе и тотчас же начинает питаться самим собой, как огонь, который вспыхивает после того, как его раздули".
Вторично Платон говорит об этом в "Федре", 247:
"Божественный разум, когда его питает знание и чистая наука... наслаждается, видя сущность вещей, которую он до того не знал. И когда он... напитался всем этим, он возвращаемся... домой".
Второй в "Божественной комедии" ("Рай", песня Десятая) обращается к читателю, требуя от него, чтобы он питался тем, что перед ним поставлено поэтом:
"Я подал те6e. Теперь питайся этим, корми себя сам".
Я далека от мысли вынести какое-либо суждение о французской литературе послевоенных лет. В центре ее тогда стояли Capтp, Камю, Арагoн и Элюар. Первый олицетворял собою двусмысленность современного французского интеллектa, второй с самого начала своей недолгой жизни был жертвой какого-то артистического недовоплощения: не столько писатель, сколько явление, не столько поэт - сколько памятник эпохе (он цитирует две мои книги и упоминает меня в "Carnets" 1948 года). Я была на многолюдном митингe в большом зале Плейель, 13 декабря 1948 года, когда Камю говорил на тему, такую близкую когда-то Блоку: о поэте и черни. Он был в тот вечер похож на Блока, на нем был такой же белый свитер с высоким воротником, какой, по рассказам старых петербуржцев, Блок носил в 1920-1921 годах. И речь его на этом митинге была речью одиночки: он выступил между Руссе, "потрясавшим сердца" своим красноречием, и дадаистом Андре Бретоном, ставшим троцкистом, чье выступление носило характер шутовства. Где-то среди них Камю говорил - сжав челюсти, глухим голосом, держа руки в карманах и глядя поверх аудитории. Об этом поразительном сходстве с "митингу-ющим" Блоком в феврале 1921 года (в Доме Литераторов, в Петербурге) я написала Камю. Он ответил мне.
Эти годы были годами роста поэта Пьера Эмманюэля, любимого мной. Но он не вышел в первый ряд имен, который занимали Арагон и Элюар, виднейшие члены французской компартии.
Характерными для французской литературы этого времени были книги Марселя Эме: иронические, легкие, меланхолические, они всем своим характером говорили об антивсемирнос-ти, о локальности современной французской литературы, о ее "малой траектории" и "частном горизонте". И в эти же годы поднималось, как некое черное светило, имя Жана Жене, возведен-ного вскоре Сартром в гении и святые, Жене, две книги которого (одна - откровенно, другая - скрыто автобиографическая) затмили на целое десятилетие все остальные, несмотря на то, что в предисловии к одной из них Жене писал об "ангелах - немецких оккупантах", летающих в небесах и бросающих бомбы на Францию, а посвящена была книга некоему Пильоржу, убившему своего любовника Эскудеро, и известному Вейдеману, зарезавшему шесть человек и казненному в 1939 году. Сартр встал на защиту и этого предисловия, и его автора, и обеих книг, отчасти даже любуясь двусмысленностью собственного выбора: где, с одной стороны, он требовал engagement, целенаправленности всякого искусства, политической ответственности интеллигенции, априорного признания правоты всех требований рабочего класса, а с другой, - повинуясь какой-то темной порочности своей женственной природы, влекся к тому, что ему казалось (и не ему одному) мужественной силой антибуржуазной расы "избранных" - будь они рослые пролетарии, делающие социальную революцию, или светловолосые воины в фельдграу, или просто волосатые преступники, судимые по закону.
Да, живя в абсурдном мире, признаем, что правды нет, но ведь есть направления правды, и если этого не учитывать, то всякая философия станет двусмысленной. Теперь из первого тома автобиографии самого Сартра (названной им "Слова") мы видим, что он любил с младенчества одни напечатанные слова, с их обозначением в словарях и энциклопедиях, но был совершенно чужд смыслу Логоса, и потому его книги, за исключением первой, где он изрыгнул свое нутро (книга называется "Тошнота"), вся его "беллетристика" построена на словах как средстве обозначения [что касается "небеллетристики", то напомню что "История СССР", написанная Арагоном в 1965 году основана на сталинской интерпретации сорока трех лет русской истории с некоторыми поправками к ней Хрущева. А Сартр до сих пор считает Н. И. Бухарина не жертвой Сталина, а изменником революции, который понес справедливую кару после своего покаяния: в книге Capтpa "Сен Жене" ("Святой Жене") мы читаем "Бухарин - конспиратор и изменник, который униженно признался в своей измене революции, гнилой член революционного коллективa"... (Изд. Галлимара, 1952 г., стр. 544-546)]. Он не может этого не видеть, будучи одним из умнейших людей современности, но он также знает, что никогда не напишет своей последней книги, где бы он наконец объяснил, почему, требуя от других ответственного действия, он сам тридцать лет пребывал audessus de la melee... За все, что было получено раньше, живет во мне вечная благодарность, но мой рост, мое изменение, мое самопознание не могли остановиться, и они для меня продолжали быть важнее, чем вся локальная или даже мировая философия сегодняшнего дня.
Есть время тайн и умолчаний, и есть время признаний. И здесь я скажу в нескольких строках еще об одной причине моего отъезда из Парижа (из Франции, из Европы). Она не ст оит четвертой в том ряду, о котором я сейчас говорила Она как бы пронзает три первых и дает им экзистенциальность, то есть живет в них, связывается с ними и делает их еще важнее и жизненнее, чем они на самом деле есть Кроме невозможности материального существования, распада того, к чему я чувствовала свою принадлежность в течение четверти века, и отсутствия интеллектуальной пищи, была моя победа-поражение в личной жизни, от которой хотелось бежать. На этом участке - если принять это условное определение, в корне неверное, потому что это скорее горизонт, чем участок, - все было проиграно, имея вид выигрыша, все было завоевано тяжелой ценой, и все оказалось ненужным грузом, все было приобретено в мучениях, и все я готова была отдать даром кому придется - иначе говоря, отступить, уйти, уплыть, куда глаза глядят. И бедность, и разрушение, и бессмысленность всего были бы преодолены, вероятно, если бы не случилось этого. Но эта четвертая причина окрасила в жестокий и грозный цвет три первые. И под деревьями Трокадеро, на бегущих вниз аллеях, где я ходила, читая про себя стихи, свои и чужие, где сидела, обдумывая свою судьбу (а иногда, как это бывает, не обдумывая, а только слушая ее, рассматривая ее, ощупывая ее), в этих садах пришло ко мне решение. Я воспользовалась свободой выбора: остаться или уехать, и я уехала навсегда.
- Ну, это только полдела, - сказал мне на палубе океанского парохода человек, прослуживший экспертом фальшивых денег в американском банке в Париже тридцать лет и теперь возвращающийся в Америку, любитель иностранных языков и страшный спорщик. Сначала, за завтраком, он говорил о том, что в Соединенных Штатах лучше нет места, чем Южная Каролина. Это вызвало бурю возмущения остальных американцев, но он остался к ним глух. Потом он объявил, что французский художник Клод Лоррен изобрел слоеное тесто, и так как никто ничего об этом не знал и потому не возражал, он почувствовал себя обиженным. Он хотел спорить. За обедом он утверждал, что вокруг парохода можно увидеть сколько угодно дельфинов, надо только уметь смотреть. Он непременно хотел держать пари со всеми нами, вместе и в отдельности, утверждавшими, что дельфинов в этих местах нет.
- Скажите мне какое-нибудь русское идиоматическое выражение, - сказал он, подкравшись ко мне на палубе так, что я вздрогнула.