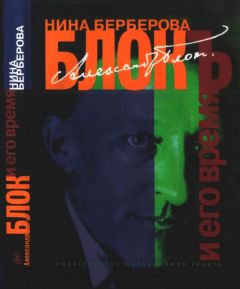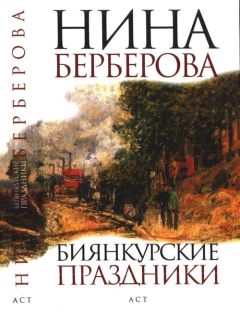Нина Берберова - Курсив мой (Часть 5-7)
А в книге было шесть повестей, и очень даже недурных. А "Воскрешение Моцарта" и "Плач", и само "Облегчение участи", по которому названа книга, я и сейчас считаю превосход-ными рассказами. Они ненамного хуже (а может быть, и лучше) "Мыслящего тростника" и "Черной болезни", которые были мною написаны последними - в 1958 и 1959 годах. Сама я имею слабость к "Памяти Шлимана", может быть, потому, что, когда я его писала, я все время чувствовала, что я - птица и кладу яйцо в гнездо, а гнездо - мой век.
Стравинский говорит в одном из своих интервью о творчестве как о физиологическом процессе: он чувствует себя, когда пишет, то свиньей, ищущей трюфелей, то устрицей, делающей жемчуг. Он признается, что у него иногда слюна течет - от звуков и гармоний, которые он кладет на бумагу, и что всякое творчество для него есть работа органов внутренней секреции с ее результатом - выделением. Все, что глотается нами, переваривается, усваивается и выделяется, и творчество есть несомненный физиологический акт. Ничего вернее этого не было сказано! Творчество, таким образом, есть функция организма в данной биологической и социальной ситуации, которую мы можем посредством этой функции принять, изменить или трансцендировать.
Внутри всякой биологической и социальной ситуации я свободна принимать решения. Тут нас всех многому научил комфортабельный ужас экзистенциалистов, для нас куда менее комфортабельный, чем для самих экзистенциалистов. И все-таки не всякий акт был мною осуществлен после сознательного и свободного решения: отъезд из России не был для меня следствием собственного решения, но выбор профессии (в десять лет) и невозвращение в Россию - несомненно им были. Следствием сознательного решения был мой неотъезд из Лонгшена в июне 1940 года, но никакое сознательное решение не привело меня к существованию в Париже в послевоенные годы - это была инерция. Я вижу на протяжении всей моей долгой жизни моменты свободного выбора и периоды инерции. И вся цепь пассивных следований за обстоятельствами и активных шагов, менявших ткань жизни, закончилась для меня самым важным, самым осмысленным и самым трудным сознательным выбором, который я когда-либо делала в жизни: уехать в США.
- А где же ваш багаж? - спросил меня Р.Б.Гуль, встречавший меня на пристани в Нью-Йорке.
Мне стало стыдно - не бедности своей, а легкомыслия, и я указала ему на два небольших чемодана, в которые таможенный чиновник не захотел и заглянуть. Но до этой минуты, когда нью-йоркский носильщик погрузил чемоданы на свою тележку и Гуль повез меня на 72-ю улицу, произошло несколько некрупных, но все же любопытных событий.
Прежде всего - плывя памятью обратно из нью-йоркского порта в Европу я слышу рассказанную мне сказку про двух лягушек, где-то неподалеку от Азорских островов. И (продолжая этот мысленный обратный путь) в американском консульстве в Париже от меня потребовали принести медицинское свидетельство.
Доктор попался с иронией:
- От чего умерли ваши родители?
- Мать, видимо, от истощения, холода и всяческих лишений, связанных с осадой Ленинграда немцами в 1941-1942 годах. А отец, я полагаю, от тоски.
- Чем болели?
- Они? Не помню, чтобы они вообще болели.
- Не они, а вы.
- Я... За последние двадцагь лет главным образом не болела. Просто, бывали, кажегся, иногда простуды. Такой, знаете, сильный насморк.
- Когда вы были в последний раз у доктора?
- Недавно. Пять лет тому назад. Это была серьезная болезнь: воспалилось самое среднее ухо. Даже барабанную перепонку пришлось проколоть - в день взятия Берлина!
- Какое ухо?
- Левое Оно у меня когда-то пострадало: мне дали оплеуху.
- Вы им слышите? В голосе моем звучит робость
- Почему-то лучше, чем прежде Доктор стучит своей палочкой по мне, где ему заблагорассудится
- Как насчет женских органов?
- Они на месте.
- Менструации?
- Пока они были, очень мне облегчали жизнь. Прямо возрождалась после них. Когда они кончились - опять хорошо: забот меньше.
- Я попросил бы вас прокомментировать это ваше последнее утверждение.
- Нет доктор, никаких комментариев. Это займет у нас слишком много времени.
- А если я попрошу вас на эту тему сделать маленький докладец перед одной ученой комиссией?
- Рада бы помочь ученой комиссии, но как-то совершенно мне сейчас не до докладов.
- Доклад сделаю я. А вас продемонстрирую.
Я смотрю в окно, поверх его седой стриженной ежиком головы, и говорю, что скоро пойдет дождик. Он - добряк, дай ему Бог здоровья, и не настаивает. Он ставит меня перед аппаратом рентгена и фотографирует мои легкие. Этот негатив в натуральную величину позже будет держать в обеих руках американский чиновник, разглядывая огромную клетку моих ребер, клетку, похожую на те, в которые сажают попугаев, и там в середине будет сидеть попугай, мое сердце, с темной аортой, похожей на гребень тропической птицы. Он будет и так и сяк любоваться этой фотографией, а я буду стоять и молчать, все время повторяя про себя: не узнаете? Странно! Ведь я та самая девочка, которой вы когда-то посылали посылки АРА. Был у вас такой президент, который этим заведовал, его тогда называли Герберт Гувер, а теперь - по декрету Академии наук - зовут Херберт Хувер... Чиновник наконец кладет все мои документы на стол и трахает по ним печатью. За невозможностью произнести мою фамилию он решил воспользоваться одним именем, чтобы поздравить меня с приездом в США:
- Enjoy it, Nina! - сказал он, и я прошла сквозь дверь; была ли она открыта, полуоткрыта или плотно закрыта, я не помню. Я прошла сквозь нее.
Но до всего этого, до моего знакомства с таможенниками, консулами, докторами, пресс-атташе, крупными и мелкими чиновниками иммиграционного департамента, человеком, принимавшим мою клятву, и барышней, требовавшей подпись на всех четырех копиях какого-то документа, произошло еще очень многое. И прежде всего - произошел факт решения, факт выбора, и в те дни, когда я решала и выбирала, я чувствовала, что не просто бросаю в воздух монету - орел или решетка? - но пользуюсь свободой делать или строить свою жизнь, которую мне, в мире, где я живу, даровало мое время. Я пользуюсь своим правом, как воздухом, - оно мое, не завоевываю, не вымаливаю, не оплачиваю, но беру, как мне принадлежащее. Ответственность несу перед самой собой, не полагаясь на слепой случай, и в полном сознании делаю тот шаг, от которого зависит не то и не это во мне, а я сама. И не две, а целых три силы влияли на меня тогда в зеленых садах Трокадеро летом 1950 года, и, может быть, третья-то и была среди них - главной.
О двух первых я уже сказала. Да, невозможность дожить до конца месяца, неумение переменить профессию, как говорится, материально свести концы с концами в Париже после войны была одной из причин моего отъезда. Я за двадцать пять лет жизни в Европе привыкла к тому, что гвозди забиваются серебряными ложками по мудрому народному изречению. Я много лет была на это согласна, и в конце концов это стало казаться мне даже естественным. И теперь я нисколько не бунтовала против такого положения вещей, но это положение вещей, которое всегда было, выражаясь суконным языком, "неудовлетворительно", сейчас становилось совершенно угрожающим. Но вряд ли одна материальная безнадежность привела бы меня к решению моей судьбы. Была вторая причина: я оставалась одна или почти одна в том городе, где я четверть века прожила в дружбе, во вражде, в дружбе-вражде, в атмосфере, созданной (как я уже сказала однажды) десятком или двумя десятками людей, имевших дело с мыслью и музыкой русской поэзии со словом, с "нотой", с идеями и ритмами, которые культивировались - худо ли, хорошо ли - в духе некоего оркестра, где если не во всех нас, то в некоторых из нас (и во мне самой, конечно) силен был тот esprit de corps, который обьединял нас, oтъединяя от других групп русского рассеяния Как в оркестре, мы были лет пятнадцать все налицо А сейчас не оставалось никого или почти никого, и впереди было небытие - личное и общее
Много лет тому назад в каком-то русском дачном месте все лето в саду, в круглом киоске, похожем на раковину или не очень похожем, играл духовой оркестр, и капельмейстер, носивший желто-голубой мундир, ежедневно заканчивал свой концерт весело-грустным военным маршем. Меня водили вокруг киоска, и я старалась рассмотреть, как музыканты, похожие, как мне казалось, на пожарных (которых я боялась), дуют в трубы, свистят в флейты, выводят душераздирающие мелодии и потом вытряхивают из валторн слюну. Но больше всего я интересовалась барабанщиком, который бил в большой барабан, странно на него самого похожий, барабанщика пузатого, коротконогого, с бабьим лицом и необыкновенно короткими руками. Капельмейстер в желто-голубом мундире с седыми усами и осанкой героя русско-японской войны, с дочерью которого я играла в мячик на дорожках сада, был человек с фантазией, и в последний день дачного сезона придумал трюк, который моему детскому воображению показался гениальным: постепенно с эстрады киоска, во время бравурно-печального марша, уходили музыканты, унося свои инструменты. Так что под конец остались на эстраде только машущий палочкой капельмейстер и барабанщик, который бил свою дробь. Затем капельмейстер с палочкой в руке спустился с лесенки и пошел домой (так мне сказали), а барабанщик остался еще минуты на две и все барабанил в такт испарявшегося в воздухе марша. Потом, взвалив барабан на спину, ушел наконец и он. В памяти остался дождик, вдруг пошедший из ясного неба, сторож, засвистевший в свисток, и, может быть, для полноты картины - первые облетающие листья. Кто-то маленький заплакал. Кто-то большой сказал, что завтра приедут подводы и повезут вещи и кухарку в город. Какая-то грусть, ранний вечер, дома попытка нарисовать цветными карандашами паровоз, который повезет меня в Петербург. И все. Но образ последнего барабанщика в этом похожем - или не очень похожем - на раковину киоске остался в памяти на всю жизнь.