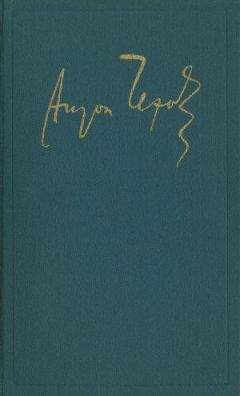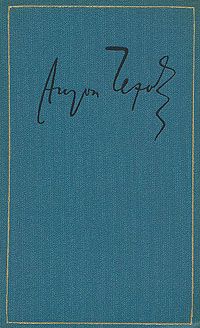Антон Чехов - Том 10. Рассказы, повести 1898-1903
Однажды — это было в ясный осенний день, перед вечером — старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет семидесяти, без зубов. Костыль и сторож разговаривали.
— Дети должны кормить стариков, поить… чти отца твоего и мать, — говорил Яков с раздражением, — а она, невестка-то, выгнала свекра из цобственного дома. Старику ни поесть, ни попить — куда пойдет? Третий день не евши.
— Третий день! — удивился Костыль.
— Вот так сидит, всё молчит. Ослаб. А чего молчать? Подать в суд, — ее б в суде не похвалили.
— Кого в суде хвалили? — спросил Костыль, не расслышав.
— Чего?
— Баба ничего, старательная. В ихнем деле без этого нельзя… без греха то есть…
— Из цобственного дома, — продолжал Яков с раздражением. — Наживи свой дом, тогда и гони. Эка, нашлась какая, подумаешь! Я-аз-ва!
Цыбукин слушал и не шевелился.
— Собственный дом или чужой, всё равно, лишь бы тепло было да бабы не ругались… — сказал Костыль и засмеялся. — Когда в молодых летах был, я очень свою Настасью жалел. Бабочка была тихая. И, бывало, всё: «Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, лошадь!» Умирала, а всё говорила: «Купи, Макарыч, себе дрожки-бегунцы, чтоб пеши не ходить». А я только пряники ей покупал, больше ничего.
— Муж-то глухой, глупый, — продолжал Яков, не слушая Костыля, — так, дурак-дураком, всё равно, что гусь. Нешто он может понимать? Ударь гуся по голове палкой — и то не поймет.
Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на пятьдесят, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду.
Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Возвращались старухи из леса и с ними ребята; несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала.
— Здравствуй, Макарыч! — сказала Липа, увидев Костыля. — Здравствуй, голубчик!
— Здравствуй, Липынька! — обрадовался Костыль. — Бабочки, девочки, полюбите богатого плотника! Хо-хо! Деточки мои, деточки (Костыль всхлипнул). Топорики мои любезные.
Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился толпе старик Цыбукин, и стало вдруг тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали, и, когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:
— Здравствуйте, Григорий Петрович!
И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть.
Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились.
На святках*
— Что писать? — спросил Егор и умокнул перо.
Василиса не виделась со своею дочерью уже четыре года. Дочь Ефимья после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала два письма и потом как в воду канула; ни слуху ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью — и всё думала об одном: как-то там Ефимья, жива ли. Надо бы послать письмо, но старик писать не умел, а попросить было некого.
Но вот пришли святки*, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который, как пришел со службы, так и сидел всё дома, в трактире, и ничего не делал; про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись на пятиалтынном.
И теперь — это происходило на второй день праздника в трактире, в кухне — Егор сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и Петр, ее старик, очень худой, высокий, с коричневой лысиной; он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина; она шипела и фыркала и как будто даже говорила: «Флю-флю-флю». Было душно.
— Что писать? — спросил опять Егор.
— Чего! — сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. — Не гони! Небось не задаром пишешь, за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо.
— Есть. Стреляй дальше.
— А еще поздравляем с праздником Рождества Христова, мы живы и здоровы, чего и вам желаем от господа… царя небесного.
Василиса подумала и переглянулась со стариком.
— Чего и вам желаем от господа… царя небесного… — повторила она и заплакала.
Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах. С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды, старики жили, как сироты, и тяжко вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей! Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!
— Жарко! — проговорил Егор, расстегивая жилет. — Должно, градусов семьдесят будить. Что же еще? — спросил он.
Старики молчали.
— Чем твой зять там занимается? — спросил Егор.
— Он из солдат, батюшка, тебе известно, — ответил слабым голосом старик. — В одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге в водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так он, значит, у доктора в швейцарах.
— Вот тут написано… — сказала старуха, вынимая из платочка письмо. — От Ефимьи получили, еще бог знает когда. Может, их уж и на свете нет.
Егор подумал немного и стал быстро писать.
«В настоящее время, — писал он, — как судба ваша через себе определила на Военое Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисцыплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военнаго Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цывилизацию Чинов Военаго Ведомства».
Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст богу душу… Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после?
«Обратите внемание, — продолжал Егор писать, — в 5 томе Военых Постановлений. Солдат есть Имя обчшее*, Знаменитое. Солдатом называется Перьвейшый Генерал и последней Рядовой…»
Старик пошевелил губами и сказал тихо:
— Внучат поглядеть, оно бы ничего.
— Каких внучат? — спросила старуха и поглядела на него сердито. — Да, может, их и нету!
— Внучат-то? А может, и есть. Кто их знает!
«И поетому Вы можете судить, — торопился Егор, — какой есть враг Иноземный и какой Внутреный. Перьвейшый наш Внутреный Враг есть: Бахус».
Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито и подозрительно. От его голоса, непонятных слов, от жара и духоты у нее разболелась голова, запутались мысли, и она уже ничего не говорила, не думала и ждала только, когда он кончит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая его привела сюда, и Егору; и когда упомянул давеча о водолечебном заведении, то видно было по лицу, что он верил и в заведение, и в целебную силу воды.
Кончив писать, Егор встал и прочел всё письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой.
— Ничего, гладко… — сказал он, — дай бог здоровья. Ничего…
Положили на стол три пятака и вышли из трактира; старик глядел неподвижно и прямо, как слепой, и на лице его было написано полное доверие, а Василиса, когда выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито: