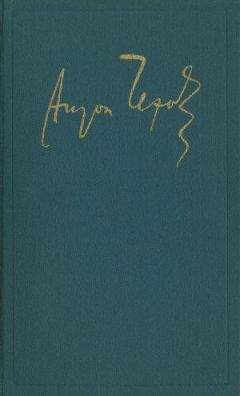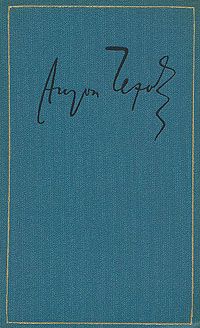Антон Чехов - Том 10. Рассказы, повести 1898-1903

Обзор книги Антон Чехов - Том 10. Рассказы, повести 1898-1903
Антон Павлович Чехов
Полное собрание сочинений в тридцати томах
Том 10. Рассказы, повести 1898-1903
А.П. Чехов. Фотография. 1899 г.
Рассказы, повести
У знакомых*
Утром пришло письмо:
«Милый Миша, Вы нас забыли совсем, приезжайте поскорее, мы хотим Вас видеть. Умоляем Вас обе на коленях, приезжайте сегодня, покажите Ваши ясные очи. Ждем с нетерпением.
Та и Ва.
Кузьминки 7 июня».
Письмо было от Татьяны Алексеевны Лосевой, которую лет десять — двенадцать назад, когда Подгорин живал в Кузьминках, называли сокращенно Та. Но кто же Ва? Вспомнились Подгорину длинные разговоры, веселый смех, романсы, прогулки по вечерам и целый цветник девушек и молодых женщин, живших когда-то в Кузьминках и около, и вспомнилось простое, живое, умное лицо с веснушками, которые так шли к темнорыжим волосам, — это Варя, или Варвара Павловна, подруга Татьяны. Она кончила на медицинских курсах и служит где-то за Тулой, на фабрике, и теперь, очевидно, приехала в Кузьминки погостить.
«Милая Ва! — думал Подгорин, отдаваясь воспоминаниям. — Какая она славная!»
Татьяна, Варя и он были почти одних лет; но тогда он был студентом, а они уже взрослыми девушками-невестами и на него смотрели, как на мальчика. И теперь, хотя он был уже адвокатом и начинал седеть, они всё еще называли его Мишей и считали молодым, и говорили, что он еще ничего не испытал в жизни.
Он любил их очень, но больше, кажется, любил в своих воспоминаниях, чем так. Настоящее было ему мало знакомо, непонятно и чуждо. Было чуждо и это короткое, игривое письмо, которое, вероятно, сочиняли долго, с напряжением, и когда Татьяна писала, то за ее спиной, наверное, стоял ее муж Сергей Сергеич… Кузьминки пошли в приданое только шесть лет назад, но уже разорены этим самым Сергеем Сергеичем, и теперь всякий раз, когда приходится платить в банк или по закладным, к Подгорину обращаются за советом, как к юристу, и мало того, уже два раза просили у него взаймы. Очевидно, и теперь хотели от него совета или денег.
Уже не тянуло в Кузьминки, как прежде. Грустно там. Нет уже ни смеха, ни шума, ни веселых, беспечных лиц, ни свиданий в тихие лунные ночи, а главное, нет уже молодости; да и всё это, вероятно, очаровательно только в воспоминаниях… Кроме Та и Ва, там есть еще На, сестра Татьяны Надежда, которую в шутку и серьезно называли его невестой; она выросла на его глазах, рассчитывали, что он на ней женится, и одно время он был влюблен в нее и собирался сделать предложение, но вот ей уже двадцать четвертый год, а он всё еще не женился…
«Как всё это сложилось, однако, — думал он теперь, в смущении перечитывая письмо. — А не поехать нельзя, обидятся…»
То, что он давно уже не был у Лосевых, камнем лежало у него на совести. И, походив по комнате, подумав, он сделал над собой усилие и решил поехать к ним дня на три, отбыть эту повинность и потом быть свободным и покойным по крайней мере до будущего лета. И, собираясь после завтрака на Брестский вокзал, он сказал прислуге, что вернется через три дня.
От Москвы до Кузьминок было два часа езды и потом от станции на лошадях минут двадцать. Уже со станции виден был лес Татьяны и три высоких узких дачи, которые начал строить и не достроил Лосев, пускавшийся в первые годы после женитьбы на разные аферы. Разорили его и эти дачи, и разные хозяйственные предприятия, и частые поездки в Москву, где он завтракал в «Славянском базаре», обедал в «Эрмитаже» и кончал день на Малой Бронной или на Живодерке у цыган (это называл он «встряхнуться»). Подгорин сам и выпивал, иногда помногу, и бывал у женщин без разбора, но лениво, холодно, не испытывая никакого удовольствия, и им овладевало брезгливое чувство, когда в его присутствии этому отдавались со страстью другие, и он не понимал людей, которые на Живодерке чувствуют себя свободнее, чем дома, около порядочных женщин, и не любил таких людей; ему казалось, что всякая нечистота пристает к ним, как репейник. И Лосева он не любил и считал его неинтересным, ни на что не способным, ленивым малым, и в его обществе не раз испытывал брезгливое чувство…
Тотчас за лесом его встретили Сергей Сергеич и Надежда.
— Дорогой мой, что же это вы нас забыли? — говорил Сергей Сергеич, целуясь с ним три раза и потом держа его за талию обеими руками. — Вы нас совсем разлюбили, дружище.
У него были крупные черты, толстый нос, негустая русая борода; волосы он зачесывал набок, по-купечески, чтобы казаться простым, чисто русским. Он, когда говорил, дышал собеседнику прямо в лицо, а когда молчал, то дышал носом, тяжело. Его упитанное тело и излишняя сытость стесняли его, и он, чтобы легче дышать, всё выпячивал грудь, и это придавало ему надменный вид. Рядом с ним Надежда, его свояченица, казалась воздушной. Это была светлая блондинка, бледная, с добрыми, ласковыми глазами, стройная; красивая или нет — Подгорин понять не мог, так как знал ее с детства и пригляделся к ее наружности. Теперь она была в белом платье, с открытой шеей, и это впечатление белой, длинной, голой шеи было для него ново и не совсем приятно.
— Мы с сестрой ждем вас с утра, — сказала она. — У нас Варя, и тоже ждет вас.
Она взяла его под руку и вдруг засмеялась без причины и издала легкий радостный крик, точно была внезапно очарована какою-то мыслью. Поле с цветущей рожью, которое не шевелилось в тихом воздухе, и лес, озаренный солнцем, были прекрасны; и было похоже, что Надежда заметила это только теперь, идя рядом с Подгориным.
— Я приехал к вам на три дня, — сказал он. — Простите, раньше никак не мог выбраться из Москвы.
— Нехорошо, нехорошо, забыли нас совсем, — говорил Сергей Сергеич с добродушной укоризной. — Jamais de ma vie![1] — сказал он вдруг и щелкнул пальцами.
У него была манера неожиданно для собеседника произносить в форме восклицания какую-нибудь фразу, не имевшую никакого отношения к разговору, и при этом щелкать пальцами. И всегда он подражал кому-нибудь; если закатывал глаза, или небрежно откидывал назад волосы, или впадал в пафос, то это значило, что накануне он был в театре или на обеде, где говорили речи. Теперь он шел, как подагрик, мелкими шагами, не сгибая колен, — должно быть, тоже подражал кому-то.
— Знаете, Таня не верила, что вы приедете, — сказала Надежда. — У меня же и у Вари было предчувствие; я почему-то знала, что вы приедете именно с этим поездом.
— Jamais de ma vie! — повторил Сергей Сергеич.
В саду на террасе поджидали дамы. Десять лет назад Подгорин — он был тогда бедным студентом — преподавал Надежде математику и историю, за стол и квартиру; и Варя, курсистка, кстати брала у него уроки латинского языка. А Таня, тогда уже красивая, взрослая девушка, ни о чем не думала, кроме любви, и хотела только любви и счастья, страстно хотела, и ожидала жениха, который грезился ей дни и ночи. И теперь, когда ей было уже более тридцати лет, такая же красивая, видная, как прежде, в широком пеньюаре, с полными, белыми руками, она думала только о муже и о своих двух девочках, и у нее было такое выражение, что хотя вот она говорит и улыбается, но всё же она себе на уме, всё же она на страже своей любви и своих прав на эту любовь и всякую минуту готова броситься на врага, который захотел бы отнять у нее мужа и детей. Она любила сильно и, казалось ей, была любима взаимно, но ревность и страх за детей мучили ее постоянно и мешали ей быть счастливой.
После шумной встречи на террасе все, кроме Сергея Сергеича, пошли в комнату Татьяны. Сквозь опущенные шторы сюда не проникали солнечные лучи, было сумеречно, так что все розы в большом букете казались одного цвета. Подгорина усадили в старое кресло у окна, Надежда села у его ног, на низкой скамеечке. Он знал, что, кроме ласковых попреков, шуток, смеха, которые слышались теперь и так напоминали ему прошлое, будет еще неприятный разговор о векселях и закладных, — этого не миновать, — и подумал, что, пожалуй, было бы лучше поговорить о делах теперь же, не откладывая; отделаться поскорее и — потом в сад, на воздух…
— Не поговорить ли нам сначала о делах? — сказал он. — Что у вас тут в Кузьминках новенького? Всё ли благополучно в Датском королевстве?*
— Нехорошо у нас в Кузьминках, — ответила Татьяна и печально вздохнула. — Ах, наши дела так плохи, так плохи, что хуже, кажется, и быть не может, — сказала она и в волнении прошлась по комнате. — Имение наше продается, торги назначены на седьмое августа, уже везде публикации, и покупатели приезжают сюда, ходят по комнатам, смотрят… Всякий теперь имеет право входить в мою комнату и смотреть. Юридически это, быть может, справедливо, но это меня унижает, оскорбляет глубоко. Платить нам нечем и взять взаймы уже негде. Одним словом, ужасно, ужасно! Клянусь вам, — продолжала она, останавливаясь среди комнаты; голос ее дрожал и из глаз брызнули слезы, — клянусь вам всем святым, счастьем моих детей, без Кузьминок я не могу! Я здесь родилась, это мое гнездо, и если у меня отнимут его, то я не переживу, я умру с отчаяния.