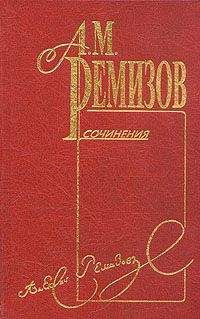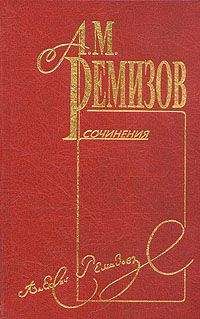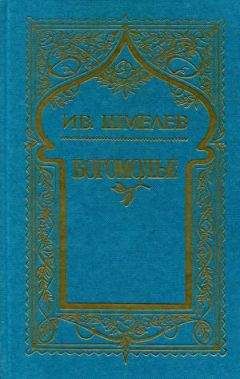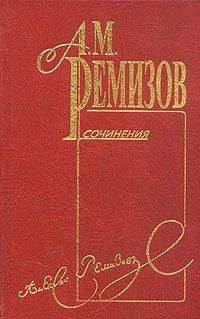Алексей Ремизов - Том 10. Петербургский буерак
«А тело утопшей Аннушки?» – вырвалось у меня.
«Ничего подобного, – сказал Бурдон, – это вам наговорил Гастон, вздор! Аннушка сбежала к повару Ельяшевича».
А от «Ховалы» он отказался – не под силу. Два месяца работы над страницей.
«А Рябушинский?» – я представил себе его негодование.
«Мосье Вальдор, – сказал Вурдон, – в Москву не вернется».
«Ховала», «Нежить» и «Водыльник» появились в «Золотом Руне» без французского перевода. Впрочем, никто и не спохватился – читателей у меня по пальцам перечесть, им русского довольно
Моя вавилонская история не кончилась. Правда, прошло немало времени, и вдруг, в Париже, как снег на голову, затеяли меня переводить на французский.
Много рассказывать нечего. Все то же: Б. Ф. Шлецер ртуть проглотил, П. Паскаль с отчаяния ушел в монастырь, Шюзевиль – а как я рассчитывал, не покинет; «потому что никогда не женился», как сам он мне признался, а вот и Шюзевиль безвестно в Сиракузах, читает коран и говорит только по-арабски.
Игра вещей*
Кто опаздывает? Прежде всего, люди – самовключенные, которые знают, как их ждешь. Сами они в тебе не нуждаются. Опаздывание вещь невеселая, а в таких случаях и жестокая. Очень уж все откровенно и объяснений никаких не требует: «подождет, не развалится!»
Есть еще случай опаздывания, но без умысла, а от невнимания: чаще всего, это люди, не умеющие думать. «Неумение думать» – это величайший порок человека – «органический».
Опаздывание соединено с чувством досады и для того, кто опаздывает, и для того, кто ждет.
За исключением умысла и недуманья, я вижу три рода опаздывающих.
Одни опаздывают – это люди забывчивые, рассеянные и мечтательные, мало или некрепко связанные с событиями жизни и с вещами.
Другие опаздывают, они совсем не рассеянные и не забывчивые и часто очень трезвые, но у которых странное душевное свойство, это свойство волевое, я называю «азартным упором». Посмотрите: надо спешить на поезд, по часам пора, а он берется за всякие пустяки: подбирает по №-ам старые газеты или возьмется за адресную книжку искать совсем ненужный адрес; он делает все, что можно делать потом, а если не находится ничего постороннего, отводящего, он просто усядется к столу (совсем уже готовый к отъезду) и будет следить за часами, как с каждой минутой остается все меньше времени поспеть. То же самое и с назначенным и условленным часом, когда надо куда-то идти, чтобы встретить или застать дома, на прием ли к доктору, в полицию по вызову, а в юности на экзамены. Если такие азартные все-таки в чем-то успевают, то исключительно и только благодаря другой, в них же самих «жизненной» (деятельной) силе, которая их сдвигает, подымая из упоительного – а в этом есть какое-то наслаждение – упора: «надо, а я еще посмотрю».
Как пример из жизни, вспоминаю свадьбу Бурнашева, – весь Петербург говорил об этой загадочной свадьбе.
М. Н. Бурнашев, правовед, со мной связан тоже не просто. Это было вскоре после печатания в «Вопросах Жизни» (1905) моего «Пруда», когда все от меня открещивались и ругательски ругали почище здешнего, правда, и люди там были поталантливее. И когда я и мечтать перестал куда-нибудь со своим соваться, а писал я «Посолонь» и вынужден был переменить писательство на собак, – собак по петербургским дворам считал с листом статистического бюро, как вдруг, ведомые Копытчиком (С. К. Маковский), появляются у нас на Кавалергардской1, я помню, удивительно мне, три блестящих «кавалергарда», сенаторские сынки, под стать первым петербургским лошадникам, на скачках непобедимые призовые: Трубников, Тройницкий, Бурнашев.
Что их повлекло ко мне, к моему уж такому «безлошадному», ко мне, только что получившему правожительство в столицах. Они основали типографию «Сириус» и первой книгой выпустят мой «Пруд», обложка М. В. Добужинского. Со всеми я познакомился, потому и о свадьбе Бурнашева говорю не из вторых рук: Бурнашев три раза опаздывал на свою свадьбу. Какие раздирательные сцены в церкви, сколько пересудов и всяких догадок, а между тем ничего загадочного, – иллюстрации к моему «упору». Только в четвертый раз состоялась свадьба: его шафер о свадьбе ни слова, а повез на острова, а по дороге в церковь.
Хороший человек, прямо скажу, был этот Бурнашев, но какая была мука с корректурой: назначит, я приготовлю, а он не пришел. Я уж думал, и книга никогда не выйдет. А когда, наконец, вышла – вот у меня белая бровь – конечно, и от бомбардировки, в меня ударило осколком, но и от терпения моего, – даром не проходит.
А о свадьбе он мне признался, что это у них родовое и «вообще», так и с отцом было, а сколько раз, я не спросил.
Еще он затеял поступить в Археологический институт, учился прилежно, но не кончил: всегда опаздывал на экзамен.
А третий род опаздывающих – это я сам.
Все устремление моей воли не обмануть, исполнить. Сознание мое ясно и точный расчет: я собрался куда-нибудь идти, дорогу знаю и всякие случайности взял во внимание, если, скажем, мне нужно час пути, чтобы точно поспеть, я прибавлю еще минут двадцать. И все-таки я никогда не поспею вовремя, всегда опоздаю.
И это, как увидите, не от забвения, не от рассеянности, и я плохой мечтатель, а при моей «живой» (деятельной) силе ни о каком «упоре» не может быть речи, нет, все происходит от игры вещей.
Вещи не подходят под живые названия, враждебный или благоприятный. Вещи создаются человеком, но закон жизни вещей скрыт от человека. А как-то они живут «играя».
Когда я сшиваю тетрадь, я всегда уколюсь иголкой, а чиню карандаш или возьмусь разрезать бумагу, непременно обрежу палец – ножом или бумагой.
Мне надо выходить из дому, вот уж я и на пороге, хвать – пропали перчатки. И я берусь за поиски и где только ни смотрю, нет, и только потом – а время идет – окажется, лежат под носом, стало быть, когда я смотрел во все глаза и никак не мог их не видеть, они просто прятались от меня.
А если вышел я из дому без задержки, начнется, наперед жду, уличная игра. Подолгу жду автобуса, в метро тоже задержка. Потом попадаю не на ту улицу. нужная, я заметил, как бы подсовывается под ненужную или ненужная принимает подобие нужной. Но когда, наконец, улица найдена, я попадаю не в тот дом. Я уверенно вхожу в дом под другим №-ом. № я не спутал, я очень хорошо его помню, да дом сам переменил цифру: 56 выглянуло, как 58.
Я много бы мог рассказать о игре вещей – чего они только со мной не выделывали! – но вспоминаются мне и не одни досадные приключения, сколько раз их темная игра спасала меня от катастрофы: что-то меня задерживало, что-то мне не дает ходу, и я опаздывал, – к моему счастью.
Петербургский буерак
Шурум-бурум (Стернь)*
Петербургский буерак подымается погу́ром над Парижскими холмами.
Моя жизнь раскололась. С августа 1921-го в Европе1, прошел через Германию и завековал в Париже.
Никогда, а только за границей я почувствовал себя, что русский: я не чужой вам, но я по-своему. А моя память о русском ярче будь была бы, живи на родной земле среди своих, в России.
1950
Париж
Шурум-бурум
Книгу «Стернь» называю ШУРУМ-БУРУМ именем моей первой книги, куда входили завитушки с тюрьмы до этапа в Устьсысольск (с 18.XI.1897 по 1.VII. 1900). Книга завалялась – годы ее держал Брюсов в «Скорпионе»2, пробовал я ее исправлять и много мучился, не зная, с какого конца, и кончил тем, что уничтожил в Одессе в апреле 1904 г.
В Устьсысольске в 1901 году я уничтожил дневник с 1884 г., где был и мой семилетний «Убийца» – концы в воду. Так и меня, придет срок, уничтожат: и концы в воду.
Хочу собрать в этой книге завитушки моей последней памяти на моей вечерней заре,3 которая вот-вот погаснет, как мои глаза (на правый почти ничего не вижу, а левый – 15 диоптрий).
Слово «Шурум-бурум» ничего не означает, это татарская выкличка. Когда-то на Москве «князья» – татарин, скупщик старья, идет по улице, выбормачивая «шурум-бурум». «Шурум-бурум» звалось, что заведется в хозяйстве «навыброс», всякая заваль, ветошь, лом. Татарину все сбыть можно, не стесняясь, и не стеснишь: мешок его бездонный.
Вот я и собираю из своего скарба, не осталось ли чего – бедновато, ну, татарин все возьмет.
1945–1948
Париж
Стернь (юж.) – жниво, жнивье, сжатое поле || самые остатки соломы на корню.
[Словарь Вл. Даля. Том IV – М. О. Вольф, 1909]I. На большую дорогу
(Моя литературная карьера)
1 Кувырком*
Моя литературная жизнь шла кувырком. Со мной все так: подъем и срыв. Прожил жизнь скачками. Падения были мне очень чувствительны, но особенно одно – на карикатурах жирная морда, паук с ножницами над грудой книг. С вытянутой шеей, поджав хвост.