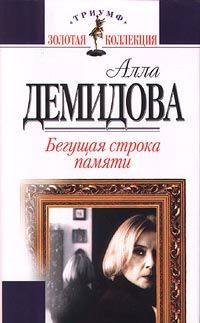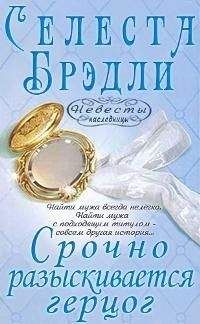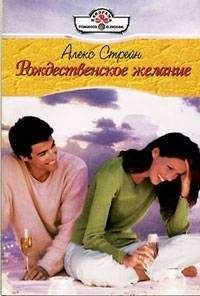Алла Демидова - Бегущая строка памяти
«Когда остается 10 дней до начала репетиций, я очень нервничаю, хотя понимаю, что нервозность и неуверенность — это нормально. Но каждый раз все внове. Я боюсь, что в момент, когда мне нужно будет что-то сказать или придумать, я ничего не смогу, все исчезнет. Роль администратора убивает во мне художника. Но я жду репетиций, они меня успокаивают. Репетиции — это единственное время, когда я любому могу сказать, что не могу его видеть...» «Я не люблю застольный период. Работа за столом придумана Станиславским, и ее практикуют во всем мире. За столом создается глобальный образ актера это хорошо, я не отрицаю смысла этой работы, но уверен, что могу обойтись без этого. Существует мнение, что актер бескультурен, необразован, поэтому с ним надо работать за столом. Станиславский боролся против клише на сцене. Работа за столом ставила задачу разбить эти клише, нужно было преодолеть актерское бескультурие и незнание (так как театр всегда был бескультурен). Я не хочу умалять Станиславского, но на практике можно работать над актером вместе с актером. Надо исходить из самого факта присутствия на сцене. Актер на сцене — и для меня (сознательно или бессознательно) он уже в работе. Напрасный труд делать из актера интеллектуала. Стыдно учить актера истории, например: «Вы что, не знаете, что была 30-летняя война, и вы хотите играть мамашу Кураж?..» Настоящие актеры приобретают культуру в процессе работы. Считается, что драматург и режиссер изначально являются носителями этой культуры только потому, что приносят проект работы. Актеры же, по определению, занимаются трудом, который ничего не имеет общего с интеллектуальностью. Одни интеллектуальны, другие — нет, но это не важно, их профессия в другом. Надо не бояться сказать, даже если обвинят в реакционности, что между интеллектуалом и артистом существует большая разница. Опасно относиться к актерам как к интеллектуалам, но так же опасно говорить, что актеры бескультурны. Именно против этого восставали Станиславский, Брехт и другие «левые» театральные гении».
«Для меня совершенно очевидно, что не существует связи между театроведом и актером и между музыковедом и музыкантом. Хотя и актер, и музыкант может быть «ведом». Быть образованным, умным не мешает актеру, но эта культура будет мешать, если она не питает саму его работу. Безусловно, работа актера — это умственная работа, но не интеллектуальная. В процессе выбора между одним или другим жестом отражается знание истории, политики и т.д. Актер сам должен выбрать путь — и в этом заключается его умственная работа. Пойти направо или налево — это уже выбор, роль режиссера — быть внимательным к этому процессу. Каждый раз делается выбор, и каждый раз в результате этого выбора история театра переделывается вновь».
«В консерватории в этом году я начал с того, с чего начинаю каждый год — беру какую-нибудь пьесу, и мы делаем ее от начала до конца. «Три сестры», «Вишневый сад», «Триумф любви»... в этом году я взял «Мамашу Кураж». Сами студенты распределяют роли, или я их назначаю, но это все случайно, это не важно. Мы начинаем сначала, не обходя никакие трудности в маленьких сценах, которые обычно опускают в школе. Начинаем. Я импровизирую — делаю ошибки, потом их исправляю. Сегодня утром, например, мы сделали три страницы. И в следующий раз мы их проиграем, но, может быть, сменим исполнителей. К концу года каждый из студентов проигрывает почти все роли пьесы. Пьеса поставлена, но ее нельзя увидеть. Ее можно увидеть только в воспоминаниях участников.
Я иногда объясняю, почему делаю так или иначе. Поэтому учеба происходит уже при анализе пьесы (например, не изучают Мольера, но по «Тартюфу» изучается весь Мольер).
В процессе обучения мы ломаем все то, что только что сделали. И мне это нравится. В этом — эфемерность театра. И я люблю театр за это. В любом случае все остается в коллективной памяти. Нам же достается удовольствие от того, что мы создаем эту иллюзию жизни».
2000 год, 28 января. Вечером зашел Анатолий Васильев. Рассказывал про строительство своего театра, которое хотят закончить к театральной Олимпиаде 2001 года. Говорил об административных заботах и как эти заботы убивают в нем художника. Прочитала ему цитаты из книги Витеза. Он посмеялся схожести. Хотя они абсолютно разные...
ПИСЬМО К N
... Вы очень интересно написали о трансформации интеллигенции за последнее время. Но мне кажется, что интеллигенция, если, как Вы пишете, за этим понимать мыслящего, образованного человека, всегда была конформистична.
Для меня интеллигент — это человек, для которого в первую очередь существуют моральные законы. Если они существуют, то человек не меняется независимо от времени. А если для него эти законы никогда не существовали, значит, он никогда не был интеллигентом, а только рядился в эту маску. Поэтому вопрос можно поставить так: «Изменилась ли маска интеллигенции?» Да, изменилась. И не в лучшую сторону, потому что в лучшую сторону человек может измениться только изнутри.
Художник всегда стоит в оппозиции к существующим рамкам. Потому что цель художника — раздвигать эти рамки. Рамки привычного, рамки штампа, рамки творческие, социальные — словом, какие угодно.
Авангардные идеи никогда не воспринимаются массой. Эту схему можно представить в виде треугольника. Масса — где-то в основании треугольника, а пик — всегда художник. И пока масса дорастет в сознании до этого пика, появится другой пик — выше. Кстати, эта схема придумана не мной, а Кандинским.
...Вы ставите интеллигенцию перед дилеммой «молчать или кричать» в отношениях с властью. Но опять-таки под интеллигенцией подразумеваете только слой образованных людей.
.. Что же касается молчания, то Андрей Тарковский в фильме «Андрей Рублев» нашел очень точную форму выражения этой проблемы. Гениальный художник живет в страшное время, когда кругом кровь, насилие, агрессия, и он дает себе обет молчания, невмешательства. Потому как если вмешиваться в политику — не надо быть художником. Но, став молчальником, он не может работать, творить именно потому, что рядом течет кровь.
Вмешиваться или не вмешиваться, каждый решает сам. Я в политику никогда не вмешивалась. Но есть какие-то внутренние принципы, согласно которым я принимаю для себя то или иное решение.
Это касается, кстати, и «Таганки». Я всегда была немножко в стороне от всего, что раньше происходило на «Таганке», и даже была в некоторой, может быть, внутренней оппозиции. Мне что-то там всегда не нравилось. Считала, что язык таганской формы — публицистически открытого разговора со зрителем исчерпал себя к концу семидесятых годов. Надо было находить новые театральные формы, ну и так далее. Но Вы же знаете, что, когда встал вопрос раздела «Таганки», я приняла, естественно, сторону Любимова, который создал этот театр. Я не могла не вмешаться.
Все эти аргументы, что Любимов большую часть времени проводит за границей, — досужие разговоры! Очень многие художники, став известными, проводят на Западе отнюдь не мало времени. Если вас не приглашают работать за границу — значит, вы мало того стоите. Они в этом смысле очень чуют талант в отличие от нас. Так вышло, что семья Любимова там живет. Тем не менее он очень много времени проводит здесь, за последнее время на «Таганке» состоялись две очень серьезные премьеры — «Электра» и «Доктор Живаго». Скандал на «Таганке» я считаю самым некрасивым событием в истории театра. Мейерхольда тоже, кстати, как бы закрывали изнутри, там тоже была группа недовольных актеров во главе с Царевым и Яншиным, которые писали статьи в газеты и письма «наверх». И в конце концов, «идя навстречу трудящимся», театр закрыли, а Мастера расстреляли... В творческих коллективах всегда много недовольных. Другое дело — кто пользуется этим недовольством — власть или люди, которые хотят употребить его в своих интересах.
Вы (как и многие мои знакомые) говорите: «Пусть, в конце концов, будут два театра!» А каким Вы видите существование двух театров под одной крышей?! Сетуете, что еще не видели ни «Живаго», ни «Электру», — значит, никогда не увидите. Потому что и «Федра», и «Три сестры», и «Электра», и «Борис Годунов», и «Доктор Живаго», и «Пир во время чумы» — сделаны специально для новой сцены, которую и отобрали губенковцы. Кстати, группа Губенко не имеет ни одного спектакля.
Недавно один депутат сказал мне: «Ну почему бы не дать им попробовать?» — «Хорошо, — соглашаюсь, — давайте мы с вами тоже попробуем. Конфликт в Большом театре, может быть, посильнее и посерьезнее нашего... Вот и попробуем с вами спеть «Бориса Годунова». Вы — Бориса, я — Марину Мнишек на сцене Большого. Куда актеров Большого? Да пускай куда хотят!.. Мы тоже хотим попробовать!»
Опять же я не за то, чтобы не давать попробовать. Но — на чистом месте. А места в искусстве действительно всем хватит. Всегда идет борьба только за завоеванное. И борются именно те, кто не может сам себе найти место, эту нишу в искусстве. Человек же, который для себя в творчестве его определил, свободен. Ему ничего не страшно...