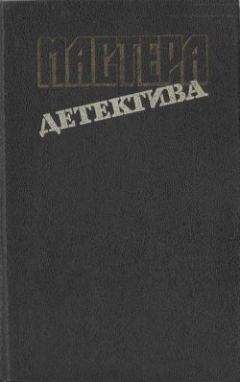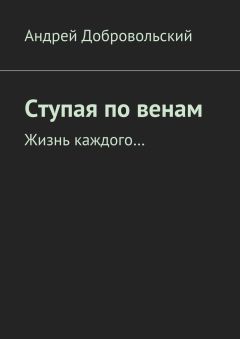Зинаида Гиппиус - Том 1. Новые люди
Люся засмеялась.
– Однако, вы, Тетеревович, просто глупы. Что вы себе вообразили?
Тетеревовича покоробило от такой бесцеремонности. Он даже хотел протестовать и кончить этот разговор, но любопытство превозмогло; он молча съел обвинение в глупости и ждал, что она скажет.
– Я вам не буду долго объяснять всех подробностей, да вы и не поймете. Иван Модестович, его приятели и приятельницы… помните Анну Васильевну? Вы ее даже как-то назвали «облезлой барышней», думая, что это очень остроумно – так вот они зовут меня с собой в Женеву… совсем – и я решила ехать. Сочувствую ли я им, люблю ли их – это все теперь лишние вопросы, потому что я уже решила ехать. Ни сестра, ни Павел Павлович (точно он имеет права на меня!) ни за что не отпустят, и я должна удрать тайком. Вы, конечно, не откажетесь, во-первых, объяснить мне, имеет ли право сестра моя или мать, которая живет в России, вытребовать меня назад силою, и, во-вторых, вы поможете мне в моем побеге.
Тетеревович встал и выпрямился на коротких ножках. На лице он выразил непроницаемую холодность, даже брезгливость, и открыл рот, чтобы произнести какие-то слова – но вдруг Люся схватила его за рукав.
– Смотрите, вот он, наш голубчик! – прошептала она быстро, обертываясь к решетке.
Мимо сада проезжала графская коляска. В ней, по обычаю, сидел молоденький графчик Дида, а рядом Павел Павлович. Лицо у Павла Павловича было желтое, постаревшее, измученное, злое – и все-таки, несмотря на это, на нем неукоснительно и явственно лежал отпечаток той угодливости, по которой сейчас же и безошибочно всякий мог узнать, кто граф и кто учитель. Сквозь искренние страдания влюбленности, сквозь еще более искренние, смутные страдания и тоску о своей разрушающейся жизни, падающей вниз и без возврата – сквозь все это неумолимо и невольно выступало выражение подчиненности на его лице. И – что всего страннее – лицо Тетеревовича утратило свою гордую холодность и глаза его стали похожи на глаза Павла Павловича, когда он снимал котелок и кланялся узколицему графчику. И никто, поняв их, не удивился бы им.
Когда коляска проехала, Тетеревович обернулся к побледневшей Люсе и попытался снова принять горделивый вид. Но вместо того – только посмотрел сердито и сказал:
– Извините, но я в чужие дела не мешаюсь. Участия в ваших странных, неосторожных поступках я принимать не могу. Юридических разъяснений тоже делать вам не стану, ибо твердо уверен, что все это было лишь шуткой с вашей стороны. Если бы я на минуту мог принять ваши слова серьезно – я, конечно, долгом счел бы предупредить вашу сестрицу и Павла Павловича.
Проговорив эти слова, он снял котелок, низко поклонился и стал удаляться, думая про себя:
«Вот полоумная девчонка! В хорошую было я историйку впутался. Они все здесь точно взбесились. Нет, пора, пора уезжать!»
XXБедная Веруня Шилаева вела грустную жизнь. Каждый день она собиралась уезжать, уложила все сундуки – и все-таки оставалась. С утра до вечера она просиживала одна, в своем мрачном нумере, и невольно радовалась, когда звонили к табльдоту. Люся пропадала неизвестно где по целым дням, иногда возвращалась поздно и на все вопросы робкой Веруни или говорила дерзости, или презрительно молчала. Все знакомые разъехались. Павел Павлович ссылался на усиленные занятия с молодым графом и все реже навещал жену.
Веруня откладывала свой отъезд, потому что ей необходимо было переговорить с Павлом Павловичем, и очень серьезно. Но у нее духу не хватало, объяснение откладывалось, и Вера истинно мучилась.
Что касается Павла Павловича – то он почти не выходил из угнетенно-мрачного состояния духа. История с Антониной точно разбудила его, хотя и не совсем – и он страдал глухо и тяжело, смутно сознавая, что перед ним какая-то черная яма, куда он скользит, и нельзя удержать этого медленного и неумолимого движения. Он попробовал вспомнить свои ранние мечты, ту жизнь «на пользу народа», которая казалась ему желанной и правильной: ведь все теперешнее он принял только как временное; настоящее должно было начаться, оно отложено, но все-таки оно одно – настоящее. И Павел Павлович вообразил себе эту жизнь, деревенскую грязь, запах дубленых шуб в нетопленой избе, где он учит грамоте и цифрам дюжину крестьянских ребятишек. Он повторяет: «на первом месте – единицы, на втором – десятки, потом сотни…» Никто не понимает. Он повторит еще и еще, и его поймут. Ну, что ж, что поймут? Дальше нужно будет показывать сложение. Где же счастье? Почему его нет в душе Павла Павловича, когда он рисует себе эти прежде милые ему картины? Польза, польза… Да, он принесет пользу: мальчугану легче будет торговать в городе, зная сложение и вычитание, но еще чего-то нужно мальчугану для счастья, и Павел Павлович не может ему дать этого, потому что у него самого в душе скука и ничего нет дальше, глубже сложения и вычитания…
О, это сложение и вычитание! О, эта хина и ревень, которые Павел Павлович всегда видел, мечтая, в хорошеньком деревянном ящичке-аптечке для первой помощи заболевшим! Как они бессильны и ненужны, и какой бедный, бедный Павел Павлович, если он за второстепенным не увидел главного и в погоне за этим второстепенным, как многие и многие, сам разрушил свое жалкое здание, построенное на песке…
И Павел Павлович очутился в положении ребенка, которому задали урок и положили на стол пряник, не позволив дотронуться до него прежде окончания урока. Сначала ребенок думал о прянике – но потом увлекся книжкой и кончил ее. Он вспомнил о прянике, – увидал, что пряник картонный, и ему почти не жалко, что это так. И Павел Павлович не мог жалеть о своих мечтах и о своей вере; ему стало казаться порою, что, может быть, он ошибался…
Он не знал теперь и не хотел знать будущего. И жены избегал, понимая, что она станет определять это будущее. Даже графы заметили его мрачное настроение и склонность к одиночеству.
Он сидел в своей комнате вечером, когда ему подали записку, которую принес комиссионер.
«Ради Бога, Павлуша, – писала жена, – приходи ко мне сию же минуту. У нас несчастье, я не знаю, что делать»…
Шилаев немедленно собрался и вышел. Он застал Веруню растрепанную, расстегнутую, в большом пледе и плачущую. Одинокая свечка горела тускло, оставляя в полумраке углы высокой комнаты, где возвышались готовые сундуки и баулы. Павел Павлович в первый раз заметил, что Веруня изменилась. Вид у нее был болезненный, под глазами лежала тень.
– Что случилось? – спросил Шилаев. – Ты меня так напугала…
Вместо ответа Веруня зарыдала еще неутешнее. Шилаев готов был потерять терпение – но Вера неожиданно успокоилась и рассказала, изредка всхлипывая, что Люся последнее время пропадала днями, не слушая ее уговоров, вошла в дурную компанию; наконец, убежала совсем – и прислала письмо, что не вернется.
– Где письмо? – спросил Павел Павлович.
Веруня молча указала на тонкий листок, валявшийся на столе.
«Драгоценная моя сестрица, – писала Люся, – сообщаю вам, а равно и любезнейшему Павлу Павловичу, что я уезжаю в Швейцарию, где и стану проживать. Уезжаю я с людьми, которых называю своими друзьями, хотя, между нами будь сказано, они не каждый день умываются и главное занятие их состоит в том, чтоб ломать всякие встречные предметы, случись то невинный стул, статуя Аполлона Бельведерского, или что-нибудь иное. Не могу сказать, чтоб я вполне сочувствовала такому истреблению многих пригодных вещей; но молчу, потому что боюсь: пожалуй, они и не возьмут меня, а жить с вами я больше не могу. Я должна идти куда-нибудь, хоть к неумытым людям, я должна делать что-нибудь, хоть ломать стулья; но не могу, не могу я топтаться на месте, как вы, и бесплодно канючить о старых тряпках, как достойный Павел Павлович. Если бы я знала другой путь, если б хоть один, один человек понял меня и захотел помочь мне – я не пошла бы с моими друзьями. Но я одна. И не нужно мне никого. К черту всех! Не вздумайте меня вернуть. Маме я напишу сама. Она поноет, но, благодаря судьбе, мер к моему возвращению не примет. Я ее достаточно знаю. Счастливо оставаться! Желаю вам, Павел Павлович, успешных занятий с деревенскими ребятишками. Пожалуй, они будут непонятливы после графов. И кто вам станет в деревне каждый день стирать крахмальные сорочки и чистить ваш smoking[44]?..»
На этом письмо обрывалось. Не было даже подписи. Шилаев бросил его на стол и прошелся по. комнате. Лицо его, мрачное и потемневшее, испугало Веру.
– Что же ты думаешь? – робко произнесла она после минутного молчания. – Как быть? Дать знать полиции? Искать ее?
Шилаев покачал головой.
– Нет, – сказал он. – Это бесполезно. Все равно, опять уйдет, а то еще зарежет нас обоих. Ее нельзя удержать. Пусть как знает!
Вера опять принялась плакать, но уже с облегчением. Она боялась сестры, ее возвращения, особенно насильственного. Прошло еще несколько минут молчания. Павел Павлович ходил по комнате.