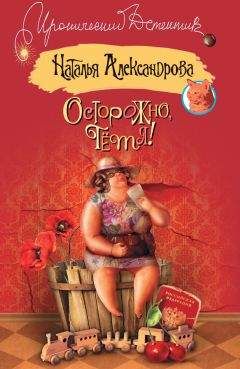Максим Горький - Том 26. Статьи, речи, приветствия 1931-1933
Наша молодёжь, а особенно крестьянская, то есть большинство молодёжи, совершенно не знает прошлого и поэтому недооценивает значения настоящего, неясно видит цели будущего. Это надобно повторять тысячи раз, и с этим нужно бороться до той поры, пока оно не исчезнет. Наша молодёжь не подвергается, как прежде, уродующему давлению чуждого ей класса, он уничтожен вместе с его боевой дружиной, его охраной — церковниками, мещанской прессой и другим мусором, который создали капиталисты и на который опирались они. Мусор выметен, но не весь, и осталось очень много ядовитой пыли. Надо знать прошлое во всём его мрачном бытовом бесчеловечии, с его гнусным цинизмом, с его изумительным лицемерием. Это необходимо для того, чтобы воспитать в себе органическое отвращение к капиталистическому прошлому, чтобы тонко чувствовать раздражающее влияние его пыли, чтобы научиться исторически мыслить, чтобы насытить боевую теорию ленинизма фактами и углубить её, чтобы усвоить дух большевизма, его непримиримость, его гибкий разум, отточенный историей прошлого.
Всё это нужно знать и потому ещё, что хотя капиталистический мир и загнил и разлагается, но в предсмертных судорогах своих он ещё может ударить по Союзу Советов. Мы уже столько сделали нового, что имеем полную возможность сравнить трудовые и бытовые условия прошлого с трудовыми и культурными успехами настоящего, с гигантским размахом нашей индустриальной, культурной, коммунальной стройки, изменяющей лицо земли нашей. Молодёжь должна понять, что она живёт и годы, когда осуществляется, реализуется нечто гораздо более значительное, чем все благожелательные фантазии социалистов-утопистов.
На работе по «Истории заводов» литературная молодёжь получает возможность научиться писать о живом, историческом деле её класса. Учат факты. В Союзе Социалистических Советов создаются почти ежедневно небывалые факты величайшего напряжения энергии, воплощения её в жизнь, в действительность.
На работе по «Истории заводов» должны образоваться кадры людей, которые со временем обязаны будут создать «Институт по изучению роста и развития социалистической промышленности в Союзе Советов».
За работу, товарищи! Поменьше речей, красноречия, побольше дела. За работу по созданию большевистской «Истории заводов»!
О «библиотеке поэта»
Наша молодёжь должна иметь ясное представление о месте и значении поэзии в истории культуры, о том, какую роль играла поэзия в истории роста, упадка и разложения буржуазного общества. Почему с начала XIX века буржуазия — класс-«победитель» — выдвинула из своей среды так много крупных поэтов-пессимистов? Почему они, люди разных стран, различных языков, как будто поставили перед собой одну цель — примирить победителей и побеждённых на учении о бессмысленности бытия, о бессилии разума и воли людей разрешить «проклятые вопросы» жизни? Почему буржуазия — «победитель» — не создала поэзии мужественного, героического характера? Потому ли, что она строила жизнь свою на порабощении трудового народа, а это давалось ей механически легко, не требуя от неё особенно высокого напряжения энергии? Потому ли, что общественный строй, весь смысл его, сводился и сводится к бесчеловечному, грязному делу наживы, к безумному процессу накопления денег, а XIX век особенно поражающе ярко обнаружил этот свой смысл перед наиболее талантливыми и честными детьми той же буржуазии, и отсюда у детей развилось отрицание смысла жизни, презрение к ней, склонность к «мировой скорби», к пессимизму и мизантропии?
Настроением этим, как известно, заражены были Байрон и Леопарди, Ленау и Альфред Мюссе, Боратынский, Лермонтов, Бодлер, Сологуб и многие другие; не чужды были ему даже «олимпиец» Гёте и пламенный Шиллер.
На все эти вопросы отлично ответила бы история европейской поэзии XIX века, но издательство, оставляя за собой право и обязанность дать эту историю в будущем, считает необходимым сначала ознакомить молодёжь Союза Советов с историей роста и развития русской поэзии в XIX веке.
Наша молодёжь — растущая, восходящая сила, призванная логикой истории создать новые формы и условия жизни. Она должна знать историю развития и разложения буржуазии, знать, какие причины вызвали упадок буржуазии, на чём споткнулось европейское и русское мещанство, с какой полнотой и правдивостью изобразили поэты, дети буржуазии, процесс истощения сил своих отцов и личные свои драмы — драмы «лишних людей», не удовлетворённых действительностью, созданной отцами. Всё это совершенно необходимо понять молодым нашим читателям.
А поэтам нашим, кроме всего этого, нужно хорошо знать историю русской поэзии и знать, какими приёмами техники слова пользовались поэты прошлого времени, как развивался, обогащался язык русской поэзии, как разнообразились формы стиха. Нужно знать технику творчества. Знание техники дела — это и есть знание дела. Техника, взятая в целом, во всех областях труда и творчества, является одной из основных сил культурного роста, одной из сил, ведущих весь процесс культуры. Можно много видеть, читать, можно кое-что вообразить, но, чтобы сделать, — необходимо уметь, а уменье даётся только изучением техники. В работе со словом и над словом участвует способность изобретать, — мы хорошо знаем, как мучительны и бесплодны труды изобретателя, не знакомого с техникой, и как часто изобретаются вещи, давно и хорошо известные.
Не многие из наших поэтов могут похвастаться тем, что знают своё дело так хорошо, как следует знать его. И не многие из них понимают, насколько глубоко действительность, творимая рабочим классом Союза Советов, волнует весь трудовой мир небывалыми надеждами и предчувствием неизбежной трагедии всемирной борьбы лишённого собственности, но богатого революционной энергией пролетариата против богатой золотом, но нищей духом мировой буржуазии. Жизнь требует героической поэзии, поэзии углубления в смысл нарастающей трагедии. Никогда ещё жизнь не требовала от поэта и вообще от литератора так много, и никогда литература не давала так мало, так скупо, как даёт в наши дни. Это можно объяснить только узостью кругозора литераторов, недостатком их внимания к жизни, недостатком знаний о ней. Не зная истории культуры, невозможно быть культурным человеком, не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.
У нас, в Союзе Советов, героическая, трудная действительность наша не вызывает в поэзии мощного эха, а должна бы вызвать, пора! Наши поэты должны ввести в работу свою новые темы, — темы, которые поэзия прошлого века изжила и потому не касалась. Существуют ли попытки расширить круг внимания поэтов к жизни? Существуют, но обнаруживают печальное бессилие техники, отсутствие поэтической культуры. Вот характерный пример, «достойный подражания» по существу и плачевный по форме, по неудачной работе и ещё более плачевный как признак непонимания целей современной поэзии. Летом в одном из наших журналов были напечатаны такие стихи:
(Техника) X (Чутье)Пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове.
К. МарксПо свидетельству «Капитала»
(В первом томе, в пятой главе),
Новый дом возникает сначала
В человеческой голове.
Хоть и карликовых размеров,
Но в законченном виде уже
Он родится в мозгу инженеров
И на кальковом их чертеже.
Чтобы ладить ячейку из воска,
Не выводит художник-пчела
Предварительного наброска,
Приблизительного числа.
Перед зодчим и насекомым —
Два пути и один подъём
(Кто чутьё заменяет дипломом,
Кто диплом заменяет чутьём…)
Ну, а ты, под напевы гармоник
Из деревни пришедший с пилой,
Кем ты будешь, товарищ сезонник, —
Архитектором или пчелой?
Строя фабрику, лазя по доскам
С грузом цемента и смолы,
Ты наполнил не медом, не воском
Переходы её и углы.
Но, сложив их для ткани и пряжи,
В хитрый замысел ты не проник, —
Ты, быть может, неграмотен даже.
Ловкий кровельшик, плотник, печник.
В одиночку, вслепую, подённо
Мы не выстроим ульев труда:
Надо техникой гнать веретёна,
Надо книгой крепить города!
Видишь? — мёд отдают первоцветы,
Видишь? — цифры бегут по столу,
Сочетай их обоих в себе ты —
Архитектора и пчелу!
Это — суша, а на море хлюпком
Кто-то кажет — «правей!» да «левей!»
Кто-то правит над каждым поступком,
Каждым жестом команды своей.
Раза в два веселей капитана,
Но безграмотнее в двадцать два —
Не боящаяся тумана,
Недоступная бурям плотва.
Ну, а ты, чей льняной отворотец
Врезан мысом в холст голубой,
Кем ты будешь, матрос-краснофлотец,
Навигатором или плотвой?
Видишь? — воду в чешуйчатых стаях
Руль распарывает по шву, —
Ты обоих в себе сочетай их —
Навигатора и плотву!
Это — море, а в газовых ямах —
Спор горючего с весом земным,
Превращённый в победу упрямых,
В высоту и невидимый дым.
В то же время взлетает не хуже
(Даже лучше) увесистый жук;
Вероятно, воспитанный в луже
И не кончивший курса наук.
Ну, а ты, самодельный моторчик
Запускающий детским рывком,
Кем ты будешь, мечтатель и спорщик, —
Авиатором или жуком?
Видишь? — падают гордые Райты,
И глядит на них синь свысока,
Их обоих в себе сочетай ты —
Авиатора и жука!
Это — воздух, а в путанной сфере
Расстановки общественных сил
Мы — свой мир осознавшие звери,
Мы — совет мировых воротил.
В то же время под лиственной кучей,
Меж корнями — чего б? — ну, хоть ив,
Бессознательный, но могучий
Муравьиный живёт коллектив.
Ну, а ты, позабывший о боге,
Притеснителей съевший живьём,
Кем ты будешь, строитель двуногий,
Гражданином иль муравьём?
В этих двух государственных строях
Невозможны князья да графья.
Сочетай же в себе ты обоих —
Гражданина и муравья!
Так — трудящиеся народы —
Множим технику мы на чутьё,
Так мы учимся у природы
И, учась, поучаем её!
Я несколько раз читал эти стихи различным людям, слушатели встречали стихи или равнодушным молчанием или поверхностной критикой их технической слабости. Следует сказать, что слабость этой дидактической рацеи слишком очевидна и отметить её — нетрудно. Но никто не отметил того факта, что одна из ценнейших идей основоположника истинно революционной философии стала достоянием поэзии. Разработана эта идея — плохо, да. Но всё-таки автор стихов заговорил о том, о чём до него не говорили, и это нужно записать в его актив. Последние две строки — неверны: «мы учимся у природы», но не «поучаем её», а, всё более смело подчиняя её стихийные силы силам нашего разума и воли, становимся владыками её, создаём свою, «вторую природу».