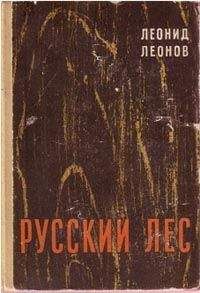Валентина Колесникова - Гонимые и неизгнанные
Едва отдохнули супруги Нарышкины после трудного пути в весеннюю распутицу, как начались визиты родственников и близких декабристов тульских уроженцев: Киреева и Чижова, Бодиско и Голицына, Непенина и братьев Крюковых, Черкасова и Лихарева, Аврамова и Загорецкого. Что мог сказать им Михайло Михайлович, если видел товарищей своих 12, а кого и все 15 лет назад? Но принимал ласково, заботливо, волнуясь и сострадая. Понимал: их утешает даже просто встреча с ним. Для отцов и матерей время остановилось на декабре 1825-го - январе 1826 года, а он был там, с дорогими их сердцу в самое трудное время - в крепости и на каторге.
И только одному - отцу Павла Бобрищева-Пушкина Сергею Павловичу - им было что не только рассказать, но и показать. После долгой беседы Елизавета Петровна, сердцем поняв душу исстрадавшегося Сергея Павловича, осторожно готовила 75-летнего старика к своему известию.
- А что, любезнейший Сергей Павлович, как вам показалось кресло, в котором я сижу? - Она встала и неторопливо отодвинула его от стола.
Сергей Павлович недоуменно взглянул на Елизавету Петровну:
- Помилуйте, сударыня, у вас все в доме отменно красиво и изящно!
- А знаете ли, кто мне исполнил его?
Сергей Павлович решительно смутился, боясь отвечать, чтобы не обидеть хозяйку, и смотрел несколько растерянно.
- А исполнил его, добрейший Сергей Павлович, - протяжно проговорила Нарышкина, - сын ваш, Павел.
Такой реакции Елизавета Петровна не ожидала: старик несколько секунд непонимающе переводил взгляд с неё на кресло, потом встал порывисто и вдруг, опустившись на плохо гнущиеся колена перед креслом, зарыдал, опустив руки и голову на сиденье.
Страшен безнадежностью плач стариков над собственной бедой, но ещё более потрясает горе отцовское, когда вырывается оно из долгого заточения. И не выдержали Нарышкины. Стоя рядом с Бобрищевым-Пушкиным и не пытаясь поднять его, плакали тоже, может быть вспомнив своих ушедших родителей, а может - ощущая и его своим отцом, плакали не стесняясь, как плачут в детстве, освобождая душу от тяжести, горечи, обид, от так долго и стойко переносимых испытаний...
Нарышкины не отпустили Сергея Павловича в тот день, пообещав отвезти в Егнышевку назавтра. Он и не настаивал. Елизавете Петровне пришлось сесть в другое кресло, - старик, примостившись на край стула, держал "Павлушино кресло" за подлокотник и поглаживал спинку, сиденье, все резные украшения, вглядывался, будто хотел разглядеть сына в его очертаниях. После вечернего чая перед отходом ко сну заговорил умоляюще:
- Лисавета Петровна, Михайло Михайлович, благодетели, родные, подарите, а то продайте мне кресло сына!
Не было сил ни смотреть в его детски умоляющие глаза, ни отказать, ни уступить. Нужна была правда.
- Не буду лукавить, мой добрый Сергей Павлович. Мне дорого, очень дорого это кресло. Сын ваш подарил мне его ещё в Петровском остроге, ко дню именин. Тяжелое было время. Я ужасно страдала нервическими припадками. Всех поразил такой подарок и удивило искусство Павла Сергеевича. Но я, когда первый раз села в кресло, уразумела: сын ваш подарил мне здоровье. Елизавета Петровна остановилась, потому что Сергей Павлович снова плакал, но уже беззвучно, боясь пропустить хоть слово. Быстрые крупные слезы текли по щекам, и он отирал их большим платком. - С той поры я стала спокойнее, а если случались прежние приступы, скорее садилась в кресло - Павел Сергеевич доброту сердца рукам своим передал. Вот она и лечила меня. Доброта сына вашего лечила, милый Сергей Павлович. Вместе с нами кресло это было на поселении в Сибири, затем на Кавказе и домой приехало. Это лекарство мое.
Казалось, сердце старика впитывало каждое слово Нарышкиной.
- А знаете ли, что я придумала, добрейший Сергей Павлович? предупредила его вопрос Елизавета Петровна. - Давайте-ка сделаем такой уговор: когда я умру, кресло перейдем вам. А когда умрете вы, пусть кресло снова передадут в мой род. Согласны?
Что он мог ответить? Он знал, что земной его срок вот-вот кончится, а у этой молодой женщины впереди ещё много дней - и пусть не иссякнет в ней благодарность к доброте сына, дай Бог и ему, как Нарышкиным, покинуть суровые места мук и скорби.
Старый Сергей Павлович оказался прав: ему оставалось быть на земле всего трехлетие, а Е.П. Нарышкиной предстояли спокойные и счастливые, хотя и не очень здоровые 23 года.
Глава 4
В стране поселенской
Прощай, каземат!
Первый день Рождества, 25 декабря, был морозным, солнечным. Всеми владело умиротворенное, тихо-торжественное настроение. Чай пили по отделениям, не торопясь, много вспоминали о рождественских праздниках дома - и более всего в детские свои годы. Не торопясь и расходились, чтобы сойтись потом группами, с неизменными чубуками, в казематах или в коридорах у топящихся печей, дверцы которых не закрывали, чтобы видеть веселый, живой огонь. Не торопясь курили, и не было в этот день споров, громких разговоров - не сговариваясь, будто ограждали тишиной праздничный свет в душе. Все принарядились, многие собрались на рождественский обед в дома к женатым. Рождественские кушанья ждали и остающихся в остроге.
Благостный настрой утра в одночасье нарушился посланным от коменданта Лепарского офицером. Бесстрастным, озабоченным голосом тот оповещал каждую группу:
- Пожалуйте в большую залу!
Значить это могло все, что угодно, - мгновенно все глаза наполнились тревогой и беспокойством.
- Господа, я имею честь огласить указ его императорского величества Правительствующему Сенату от 8 ноября 1832 года, - торжественно произнес Станислав Романович, когда все собрались.
Он читал - в неспешной своей манере, будто сначала прожевывал, а потом уже проговаривал слова, и сегодня это раздражало - хотелось скорее узнать, в чем состоит указ.
"Ныне, по случаю восприятия от святой купели новорожденного четвертого любезнейшего сына нашего, великого князя Михаила Николаевича, желая явить новый опыт милосердия нашего к участи помянутых государственных преступников, всемилостивейше повелеваем... - Лепарский сделал многозначительную паузу, глянул на слушателей, но, столкнувшись с нечеловеческим напряжением в их глазах, почти "галопом" прочитал "повеления": осужденным на 20 лет по 1-му разряду срок каторги сокращался до 15 лет, осужденным на 15 лет - до 10, "Муханова, Фонвизина, Фаленберга1, Иванова, Мозгана, Лорера, Аврамова, Бобрищева-Пушкина 2-го, Шимкова, Александра Муравьева, Беляева 1-го, Беляева 2-го, Нарышкина и Александра Одоевского, оставленных в работе 8 лет, освободив от оной, обратить на поселение в Сибирь".
Вместе с ними на поселение определялись и три члена из Общества военных друзей: А.И. Вегелин, К.Г. Игельстром, М.И. Рукевич2, а также В.П. Колесников3, отбывавшие вместе с декабристами каторгу.
...Как передать их радость - эту верную спутницу надежды? Однако была она недолгой, ибо в сердце каждого пришло осознание: не на родину отправляются их товарищи, а сокращение срока каторги на пять лет - так уж ли улучшает их судьбу? Если Богу угодно будет уберечь их жизни и через 10, и через 15 лет, за ними - те же сибирские дали. А кроме того, царская милость означала ещё и разлуку - может быть, навсегда. Об этом в одном из писем сообщал А.И. Вегелин:
"Нам прочли указ его величества, согласно которому 18 из заключенных получили свободу; первый момент, как вы можете хорошо себе представить, был преисполнен одним всеобщим ликованием, но понемногу мысль о разлуке с людьми, столь близкими нашему сердцу, в сильной степени его смутила; нам был дан срок до 12 января, чтобы приготовиться к дороге".
Итак, новый, 1833 год Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин последний раз встретил со всеми товарищами своими. Каким он был, их прощальный Новый год? Скорее всего, веселым и грустным одновременно. И видимо, возродила все же царская милость надежды на скорые добрые перемены для всех.
Они перестали надеяться лишь к началу 40-х годов - стало очевидно, что Николай никогда не перестанет считать их серьезными своими врагами. Много позднее, в середине 50-х годов, М.А. Бестужев горько сыронизирует над монаршими милостями: "Незабвенный, удивляясь нашей живучести, начал морочить Россию милостивыми манифестами, не приносящими нам ровно никакого облегчения, как сказал поэт:
При нем случилось возмущенье,
Но он явился на коне,
Провозглашая всепрощенье.
И слово он свое сдержал,
Как сохранилося в преданьи:
Лет сорок сряду все прощал,
Пока все умерли в изгнаньи"1.
Итак, на поселение велено было отправляться 18 узникам. Отправлялись 16. Двое - М.А. Фонвизин и А.М. Муравьев - как о милости просили остаться в Петровском заводе. Первый был тяжело болен и не мог ехать (на поселение в Енисейск он прибыл лишь год спустя, в феврале 1834 года). Александр Муравьев просил оставить его в каземате до окончания срока каторги брата Никиты Михайловича Муравьева, осужденного по 1-му разряду (они вместе отправились на поселение в с. Урик Иркутской губернии в 1839 году).