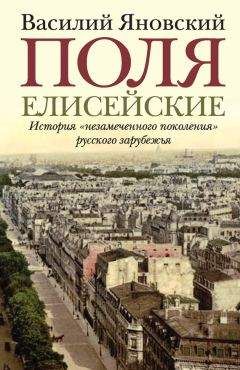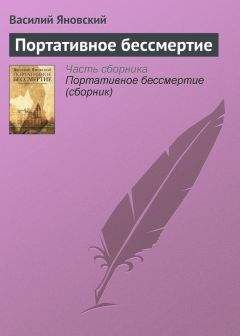Василий Яновский - Поля Елисейские
Расшалившись, старцы начинали шутить; Шестов рассказывал старинный анекдот, а Бердяев рассеянно и светло улыбался... Смутно помню нечто юмористическое про читателя. Кажется, Ремизов обращается к Шестову:
- Лев Исаакович, я вчера на Невском видел вашего читателя: он осторожно пересек прос-пект и остановился у витрины.
Что-то в этом роде, но гораздо смешнее.
Отсутствие читателя меня тогда еще не угнетало; предполагалось, что это временное, прехо-дящее явление. Двести, триста человек покупали наши книги, приходили на собрания, участвова-ли косвенно в литературном хозяйстве. Казалось, что этого пока довольно. Главное, написать и обнародовать: бросить очередную рукопись в бутылке. А океан - время.
Георгий Иванов определял писателя как литератора, нашедшего своего издателя: без издателя ты, может быть, гений, но не профессиональный писатель!
Лишь потом, в других десятилетиях и полушариях, я понял: слово должно быть сказано и услышано (двумя или тремя), иначе оно не слово, а только звук. Вся фауна и даже флора издают звуки.
Наши читатели вымерли, увы, быстрее своих писателей; новые ди-пи не могли стать подлин-ными собеседниками. Они вернули эмиграцию к двадцатым годам, в провинцию, с ее обличитель-ной литературой "наоборот"! Подавляющее большинство этих беглецов к религиозным вопросам равнодушно и лишено теологической интуиции. Недаром Белинский и Тургенев утверждали что "русский мужик Бога слопает". А ведь как нам одно время внушали, что это народ-Богоносец, православнейший христианин и бескорыстный подвижник... А в придачу еще великолепный бунтарь, взыскующий Правды или Истины (тут тонкое различие).
Оказалось, что русский мир - косная биологическая стихия, все принимающая в трезвом виде, мечтающая об индивидуальной телке и о полоске частного огорода. Если очень круто при-дется, то мы под пьяную руку разобьем чужую усадьбу, пианино загадим и заночуем в участке или в вытрезвителе.
А теологическая интуиция никому не нужна; народ, по-видимому, доволен своим социалис-тическим реализмом, и давно уже. Позволили бы ему только кормить поросенка под печью или в ящике письменного стола. Новый беженец, приезжая сюда, с радостью отправляется в церковь и разговляется поросенком с хреном. Но в старом русском и эмигрантском диалоге о Боге-Любви и Боге-Силе, о свободе и предопределении, о реальности очевидной или действительной, о несосто-ятельности энтропии и о воскресении во плоти... в этих несущественных спорах "ссыльно-каторж-ные" почти не участвуют.
Мистика враждебна, чужда не только комсомольцу, но и беспартийному. А понятия чести нет и не было! Тот гонор, над которым издевался Достоевский, описывая полячишек и французишек; да и Толстой не одобрял.
Без рыцарской чести и без теологической культуры обижаемый православный народ будто бы воспитал в себе чуткую "совесть", инстинктивно тяготея к справедливости и Правде... Но и это оказалось ложью в советской действительности.
В русской истории исключительную роль сыграла баба. Это она отгребалась от внутренних и внешних врагов, строила казармы и метро, кормила поросят в бане, копалась в огороде между двумя сверхурочными сменами, учила ребят мудрости Ленина и пытала "беляков" в пору гражда-нской войны. У бабы не бывает прогулов.
Вообще участие женщины в истории каждого народа характерный признак. Удельный вес роли жены и мужа в разных культурах - иной! Здесь новое поле для исследователя.
Совершенно очевидно, что участие русской бабы в истории значительно превышает деятель-ность ее немецкой товарки. Ничего отдаленно похожего на Марфу Посадницу (и Зою Космодемья-нскую) у фрицев нет. А Жанна д'Арк опять-таки стоит совершенно обособленно. За прусскую историю, какая бы она ни была, отвечает в первую очередь немецкий солдат. Баба ему помогала в том смысле, что, получив с Восточного фронта пеленки и сало, запачканные кровью, она с благодарностью пользовалась этим добром. Но, по-видимому, мечты Гретхен или Маргариты не исчерпывались этими приношениями, иначе они не сходились бы так охотно с унтерменшами.
Русская баба самодовлеющая величина! Если бы кобели ее оставили в покое, она давно бы построила крепкое и практичное хозяйство-государство, отгребаясь от орд захватчиков не хуже прежнего. Без теологии, но с церковным пением, наливками, закусками, плясом и хоровыми играми: государство-хозяйство, прочное и образцовое. Русская баба имеет в себе элементы гермафродитизма, чего такие певцы дамских плеч и кос, как Толстой и Тургенев, не заметили. (Пушкин и Достоевский снизошли к дамским ножкам.)
Американская женщина, в принципе, гомосексуальна. Она до того развила в себе мужские черты характера, что, сходясь с мужем, в действительности спаривается с себе подобным, однопо-лым существом.
Марфа Посадница и Зоя Космодемьянская в мирное время строят метро. А Жанна д'Арк между двумя войнами становится хозяйкой политического и художественного салона, где Монэ, Клемансо или Пруст находят себе покровителей.
Сколько русских женщин стреляли в генерал-губернаторов, а иной раз и в царя. Не хуже Шарлотты Корде. А вот среди всех святых, просиявших в "земле русской", нет ни одной женской святой общемирового значения класса обеих Терез или Екатерины Сиеннской... А ведь задуматься над этим стоит.
В тридцатых годах русский Париж был настроен сугубо мессианистически. Бердяев немало способствовал расцвету этих "пореволюционных" настроений. Мы были готовы защищать все достижения Октября - при условии "примата духовного начала" (официальная формула того времени)! Тут получалось дикое скрещивание, гибрид славянофилов, евразийцев и западников, марксистов с христианами. Царь и Советы - другой пример такого сплава.
Шестов в этой свистопляске не принимал участия. Уходя от него после первого визита, я на рабочем столе заметил три фолианта, расположенных не без драматической экспрессии вокруг листов писчей бумаги: Аристотель, Гегель и еще кто-то авторитетный.
- Вот продолжаю с ними бороться! - сказал Лев Исаакович, добродушным жестом охва-тывая эти три книги и себя.
Он боролся с очевидностью и линейной логикой вполне успешно; так что гитлеровские теоретики поначалу даже ссылались на Шестова в своих мифах. Пока не разобрались точнее.
Роман "Мир" я послал философу с замысловатой надписью, если не ошибаюсь - "Льву Льва Шестова"... В ответ получил приглашение на чай. Он жил в Пасси, близко от потом поселившего-ся в тех же краях Ремизова.
Мы пили вдвоем чай на кухне, и он по-старинному обстоятельно, то есть с ссылками на текст, говорил о моем романе. Там встречались разные "богоборческие" дискуссии в духе классической словесности, что Шестову определенно нравилось.
Он повторил несколько раз чье-то изречение, возможно, что Достоевского: "Если хочешь, чтобы читатель заплакал, ты сам должен испытывать боль..." Или нечто в этом роде.
Высокий, сухой, сутулый старик в сюртуке и с козлиной бородкой. Немного наивный, почти смешной. А вместе с тем его тяжба с "очевидностью" была очень серьезна и опасна.
Жизнь Шестов прожил длинную, чистую и вероятно ни разу не произнес злого, лживого слова. И в наш "железный век" никогда не поступал дурно. Тут какое-то недоразумение. Наивный философ дорожит блестящими безделушками вроде Регины Олсен или жертвы Авраама по Кирке-гору, а подлинного "золотого песка" у себя в огороде не замечает! Воистину жизнь Льва Шестова самое его глубокомысленное произведение.
В те годы мне казалось, что я увлечен трагической фигурой Спинозы Бога называвшего "субстанцией"! Собирался даже написать biographic romancee* этого упрямого шлифовщика сте-кол. Шестов меня поддержал, но тут же подчеркнул диалектические трудности: ему представля-лось, что для такой цели необходимо овладеть всем учением философа.
- Спиноза весь в броне своего геометрического метода. Пока вы не прогрызете этот защит-ный панцирь, невозможно докопаться до основного.
* Романизированная биография (франц.).
Меня увлекали в Спинозе поэтические метафоры: "...сколько общего между созвездием Пса и псом лающим животным" или "если бы падающий вниз камень мог думать, то он думал бы, что падает по собственной воле". Тут "прустианский" метод сравнения предметов или явления из со-вершенно разных областей. Благодаря этому возникает еще одно измерение, и действительность, подлежащая изучению, освещалась вдруг новым, неожиданным светом. Возможно, что за обоими этими поэтами-мыслителями стоит одна древняя литературная школа. Эти сравнения до того сове-ршенны и творчески заразительны, что уже приобретают самостоятельную ценность: забываешь, по какому поводу они были приведены...
В самом деле, почему падающий камень подумал бы, что он падает по собственной воле? Где и когда такое случилось? Наоборот, нам известны обстоятельства, при которых свободные гении воображали себя инертными исполнителями чужой, объективной, воли. А падшие ангелы сплошь и рядом ссылаются на условия и среду, их якобы заевшие.