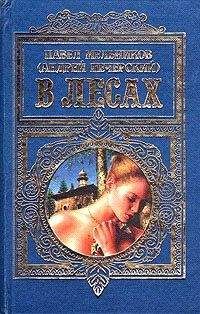Павел Мельников-Печерский - В лесах. Книга вторая
— Ох, искушение! — глубже прежнего вздохнул Василий Борисыч. Сроду не случалось бывать ему в таком переделе…
А Патап Максимыч так зашагал по горнице, что стоявшая на горках посуда зазвенела… Вдруг стал он перед Василием Борисычем и взял его за плечи.
— Получай деньги, Васильюшка, — сказал ему. — Брось, голубчик, своих чернохвостых келейниц да посконных архиереев, наплюй им в рожи-то!.. Васильюшка, любезный ты мой, удружи!.. Богом тебя прошу, сделай по-моему!.. Утешь старика!.. Возлюбил я тебя…
— Нет, уж увольте, Патап Максимыч, — собравшись с духом, молвил Василий Борисыч. — Не надо — не могу я ваших денег принять…
— Дурак! — крикнул вскипевший гневом Чапурин и порывисто вышел из горницы, хлопнув дверью, так что окна зазвенели.
— Что ж ты тревожишь его? — говорил Василью Борисычу кум Иван Григорьич. — Видишь, как расходился!.. Для че упорствуешь?.. Не перечь… покорись, возьми деньги.
— Не к рукам мне его деньги, — ответил Василий Борисыч. — Какой я купец, какой торговец?.. Опять же не к тому я готовил себя.
— Про то не думай, — внушительно сказал ему удельный голова. — Патап Максимыч лучше тебя знает, годишься ты в торговое дело али нет?.. Ему виднее… Он, брат, маху не даст, каждого человека видит насквозь… И тебе бы, Василий Борисыч, ему не супротивничать, от счастья своего не отказываться.
— Ох, искушение! — руками даже всплеснул Василий Борисыч. А самому бежать бы — так в пору.
— Нет, уж ты не прекословь, Василий Борисыч, — продолжал уговаривать его Иван Григорьич. — Потешь старика, пожалей — добра ведь желает тебе.
— Да толком же я говорю: не могу того сделать, — чуть не со слезами ответил Василий Борисыч. — Заводить торговое дело никогда у меня на уме не бывало, во снах даже не снилось… Помилуйте!..
— Экой ты человек неуклончивый! — хлопнув о полы руками, вскликнул Иван Григорьич. — Вот уж поистине: в короб нейдет, из короба не лезет и короба не отдает… Дивное дело!.. Право, дивное дело!..
— Старого человека надо уважить, — молвил Михайло Васильич. — Из-за чего ты в самом деле расстроил его?.. Ну и впрямь, что за охота тебе с келейницами хороводиться!.. Какая прибыль?.. Одно пустое дело!..
Под эти слова дверь быстро распахнулась, и Патап Максимыч вошел в горницу. Лицо его пылало, пот крупными каплями выступал на высоком челе, но сам он несколько стих против прежнего.
— Слушай, — сказал он, подойдя к Василию Борисычу и положив ему руки на плечи. — Чего торгов боишься? Думаешь, не сладишь?.. Так, что ли?
— Так точно, — ответил Василий Борисыч.
— Ладно, хорошо… Будь по-твоему, — сказал Патап Максимыч, не снимая рук с плеч Василья Борисыча. — Ну, слушай теперь: сам я дело завожу, сам хочу промысла на Горах разводить — ты только знаньем своим помогай!
— Какое ж мое знание, Патап Максимыч? Помилуйте, господа ради!.. — возразил было Василий Борисыч.
— Лучше тебя знаю, каково твое знанье, — прервал его Патап Максимыч. — Помогай же мне, ступай в приказчики…
— Ох, искушение! — вздохнул Василий Борисыч.
— Да ну его к шуту, твое «искушение». Заладил, что сорока Якова, надоел даже… Идешь в приказчики?
Молчит Василий Борисыч, мутится взор его под горячими взглядами Патапа Максимыча.
— Житье на всем на готовом, жалованья — сколько запросишь. Дело вести без учету, без отчету, все как сыну родному доверю… Что же?.. Чего молчишь?.. Аль язык-от отсох!.. Говори, отвечай! — сильно тряся за плечи Василья Борисыча, говорил Патап Максимыч.
— Не знаю, что отвечать, — тихо промолвил Василий Борисыч… А у самого на уме: «Спаси от бед раба своего, богородице!»
— Толком спрашиваю, толком и ответ давай! — чуть не на весь дом крикнул Патап Максимыч.
— Дайте сроку…— едва проговорил Василий Борисыч.
— Много ли?
— Недель шесть…— сказал Василий Борисыч.
— Долго…— молвил Патап Максимыч.
— Меньше нельзя. Чужие дела в руках, зря их бросить нельзя, — ответил Василий Борисыч.
— Дело сказал, — молвил Патап Максимыч. — А все бы маненько убавить надо…
— Никак невозможно, Патап Максимыч, — решительно сказал Василий Борисыч.
— Ну, была не была, — согласился Чапурин. — Шесть недель так шесть недель. Будь по-твоему.. Только смотри же у меня, не надуй…
— Помилуйте!.. Как это возможно!.. — А сам на уме: «Только б выбраться подобру-поздорову».
— Ладно, хорошо. — сказал Патап Максимыч. И, обняв Василья Борисыча, трижды поцеловал его со щеки на щеку.
— Никитишна! — крикнул он, маленько отворив сенную дверь. Кума-повариха вошла в горницу.
— Ставь-ка нам, кумушка, смолёну, головку холодненькую, — молвил ей повеселевший Патап Максимыч.
Кумушка скоро воротилась, неся на железном тагильском подносе бутылку шампанского с четырьмя хрустальными стаканчиками.
— С новым приказчиком! — поздравлял Чапурина удельный голова.
— С новым торгом! — подхватил кум Иван Григорьич.
И скорым делом бутылку покончили. Василий Борисыч пил, но крепко задумался.
Глава одиннадцатая
Обедать сели. То был последний обед сорочин. Пол-обеда не прошло, забренчали на дворе бубенчики, колокольчик стал позвякивать: то Михайле Васильичу стоечных лошадей запрягали. Не терпелось ему. Из-за стола прямо в тарантас, и во весь опор, как ездят только исправники, покатил он в Клюкино, чтобы с вечера на перепелов в озимях залечь… Только свалит жар, сбирался ехать кум Иван Григорьич с Груней; а с солнечным закатом хотела отправляться и Манефа со старицами, белицами и с Васильем Борисычем. Патап Максимыч не на долгое время и Парашу в Комаров отпускал, позволял даже ей с матерями съездить в леса на богомолье и в ночь на Владимирскую[99] невидимому граду Китежу поклониться… Денька через три хотела выехать из Осиповки и Аксинья Захаровна. Ехать думала, наперед к Груне, а повременя, как только Манефа из Шарпана с Казанской воротится, к ней в обитель. Одному Патапу Максимычу не сидеть дома, и он собрался в Красную Рамень на мельницы, а оттоль в город.
За обедом развеселый Патап Максимыч объявил во услышанье, что к первому спасу[100] будет у него новый приказчик и что с ним он новы торговы дела на Горах заведет. И, сказав, показал на Василья Борисыча.
Молнией сверкнули черные очи Манефы… Переглянулись белицы и старицы, с недоуменьем взглянула на мужа Аксинья Захаровна, вздохнула и покорно опустила глаза… Ни с того ни с сего зарделась Прасковья Патаповна, а бойкая, разудалая Фленушка, взглянув на нее, а потом на склонившегося над тарелкой Василья Борисыча, улыбнулась лукавой улыбкой… На этот раз Устинья Московка за тем же столом обедала, сидела рядом с игуменьей. Ровно громом оглушили ее слова Патапа Максимыча, багрецом подернулись щеки, побледнели алые губы, заблестели очи искрами палючими, и слезинки, что росинки, засверкали на длинных ресницах ревнивой канонницы. Никто ни слова, ни звука… И любо было Патапу Максимычу, что всех огорошил вестью нежданною. Повел разговоры:
— По нонешним временам человеку с достатком и стыд и грех на печи сложа руки сидеть… Не по-старому жить приходится, не в кубышку деньги копить да зарывать ее в подполье либо под углом избы… Ход да простор возлюбили ноне денежки… К тому ж и господь повелел, себя помня, ближнего не забывать… Теперь, по милости божией, по околотку сотня другая людей вкруг меня кормится, и я возымел такое желание, чтобы, нажитого трудами капитала не умаляя, сколь можно больше народу работой кормить, довольство бы по бедным людям пошло и добрая жизнь… Благословил бы только господь…
— Господь повелел богатому нищей братье именье раздать и по нем идти, — истово и учительно, но резко сказала Манефа, приосанясь и величаво взглянув на брата.
— Ту заповедь и держу в помышленье, — молвил он.
— «Нищие всегда имате с собою», рек господь, — продолжала игуменья, обливая брата сдержанным, но строгим взглядом. — Чем их на Горах-то искать, вокруг бы себя оглянулся… Посмотрел бы, по ближности нет ли кого взыскать милостями… Недалёко ходить, найдутся люди, что постом и молитвой низведут на тебя и на весь дом твой божие благословение, умолят о вечном спасении души твоей и всех присных твоих.
— Никак на своих чернохвостниц мекаешь? — насмешливо молвил Патап Максимыч. — Нет, матушка, шалишь-мамонишь — с жиру взбеситесь!.. Копейки не дам!
— Вольному воля! — понизив голос, ответила Манефа. — Господь призрит на нища и убога — проживем и без твоих милостей.
— Ну и живите, только других не корите, — молвил Патап Максимыч и, обратясь к Ивану Григорьичу и удельному голове, прибавил: — Эка, подумаешь, бездонная кадка эти келейницы!.. Засыпь их кормом поверх головы, одно вопят: «Мало, еще подавай!»
— Не суесловь, безумный! — возвысила голос Манефа. — Забыл, что всяко праздно слово на последнем суде взыщется?