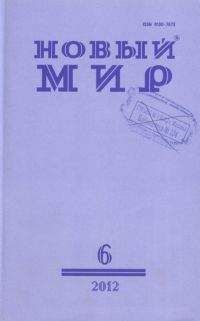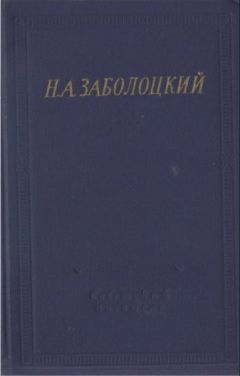Александр Куприн - Том 2. Произведения 1896-1900
Записку эту я помню наизусть. Вот ее содержание:
«Прощайте, дорогие товарищи. Клянусь богом, клянусь страданиями господа Иисуса Христа, что я не виновен в краже. Я только потому не позволил себя обыскать, что в это время в кармане у меня находился точно такой же брегет, как и у корнета графа Ольховского, доставшийся мне от моего покойного деда. К сожалению, не осталось никого в живых, кто мог бы это засвидетельствовать, и потому мне остается выбирать только между позором и смертью. В случае, если часы Ольховского найдутся и моя невинность будет таким образом доказана, прошу штаб-ротмистра Иванова 1-го все мои вещи, оружие и лошадей раздать на память милым товарищам, а самому себе оставить мой брегет».
И затем подпись.
Дядя Василий Филиппович совсем ушел в тень лампы. Он очень долго сморкался и кашлял под ее прикрытием и, наконец, сказал:
— Вот видишь, какие случайности есть в запасе у жизни, голубчик…
1897
Первый встречный
Ялта, 22 августа 18** г.
Милостивая государыня!
Нет сомнения, что настоящее письмо удивит вас или даже, может быть, раздосадует. Конечно, ничто не мешает вам бросить его в камин, не читая, но, во всяком случае, я прошу вас прежде поглядеть на конверте штемпель места отправления. Вы увидите, что это письмо писано за две тысячи верст с лишком от вас. Это обстоятельство, в связи с тем, что я открыто подписываю внизу свое имя и фамилию, может вам послужить ручательством, что вы не сделались в данном случае предметом ни мистификации, ни шантажа, ни интриги, ни тем более каких-нибудь безумных надежд с моей стороны…
…Это случилось в Петербурге, ровно четыре года тому назад, 22 августа 18** года. О, даже умирая, я вспомню это число и этот ненастный, мокрый и холодный вечер! В воздухе висел густой туман, и в двадцати шагах глаз ничего не разбирал. Огни электрических фонарей казались издали большими радужными пятнами. Отовсюду, и справа и слева, слышалось шлепанье невидимых экипажей. Изредка серую мглу быстро прорезали два желтых огненных пятна — это проезжала карета. Где-то с неумолкаемым звоном влачилась конка, но ее не было видно. Я бесцельно бродил по улицам, изредка останавливаясь перед освещенными окнами. Иногда я простаивал перед ними до десяти минут и более, охваченный странным, мечтательным любопытством. Особенно привлекали меня квартиры с богатой обстановкой: с люстрами, коврами, зеркалами, цветами и шелковой мебелью. Я был тогда беден и одинок (как и теперь, впрочем). Мыканье по урокам, жизнь в меблированных комнатах и дешевые обеды подточили мое здоровье, а вечное одиночество сделало меня диким и нелюдимым мечтателем. И вот именно этой-то чудовищной мощи мечты я и был обязан теми наслаждениями, которые я испытывал, стоя перед освещенными окнами незнакомых домов, затерянный среди ночи и тумана и равнодушной суеты столичного города. Я жил двумя жизнями. Днем — робкий и неуклюжий, с ненавистным мне самому лицом, в картонной манишке и в панталонах, висящих внизу бахромой, как шерсть у запущенного пуделя, — днем я заискивал перед швейцарами, тщательно прятал под стул, на котором сидел, свои дырявые сапоги, страдал, когда мне пренебрежительно не подавали руки, и стыдливо избегал людных улиц. Но зато вечером, под моими любимыми окнами — о! вечером я бывал и ловок, и красив, и умен. Я одерживал победы над женщинами и влиял на биржу. Какие у меня были лошади и какой великолепный стол!.. Я входил в эти прекрасные комнаты, освещенные канделябрами и насыщенные теплым ароматом духов и растений: эти комнаты принадлежали мне. Я играл вон с теми тремя стариками аристократического типа в карты, и мы не спеша обменивались важными изысканными выражениями. Я очаровывал общество пением, стоя вон у того раскрытого рояля. Я бывал то мужем, то женихом, то любовником всех этих красивых женщин с размеренными движениями, утопающих в кружевах и полулежащих на причудливо изогнутой мебели. Женщины в такие вечера особенно сильно овладевали моим воображением. А днем я ни за что не осмелился бы сказать любезность простой судомойке.
Впрочем, я отвлекся в сторону. Прошу простить меня за невольное отступление и продолжаю. На углу Литейной и Невского стояла неподвижно около фонаря какая-то неясная, благодаря туману, фигура. Я подошел ближе и остановился в изумлении. Не то поразило меня, что это была женщина, — кто же не знает, как много и каких именно женщин высылают в такую пору на улицы Петербурга легкомыслие, обман и нищета? Но как могла очутиться именно такая женщина, в грязный осенний вечер, на людном городском перепутье и одна, совершенно одна — без спутника, без провожатого или без лакея? Это было для меня так же удивительно и так же непонятно, как если бы зимою среди поля я увидал лежащую на снегу красную розу. В ее высокой фигуре, в позе, в каждой складке ее темного платья чувствовалась женщина высшего света, одна из тех женщин, которых в такой вечер можно увидеть только в тот момент, когда, выйдя из кареты, они торопливо и легко проходят по красному сукну освещенного подъезда между двумя рядами больших растений в кадках, оставляя за собой едва уловимый запах духов. И не я один это чувствовал. Мимо незнакомки, покамест я наблюдал ее, прошло несколько уличных шатунов в подвороченных панталонах и с папиросками в зубах. Но никто не осмелился подойти к ней, ни у одного из них не хватило смелости заговорить с этой женщиной.
Она была, по-видимому, чем-то взволнована. Несколько раз она нетерпеливо повертывала голову то в одну, то в другую сторону и время от времени нервно стучала зонтиком по грязным плитам мостовой.
Сначала я подумал было, что она кого-нибудь дожидается, — конечно, возлюбленного. Но я тут же отбросил эту мысль, вспомнив обстановку адюльтера из бесчисленного множества поглощенных мною французских романов. Там, обыкновенно, la petite baronne de Coussy [18], назначив свидание своему Raymond'y[19], едет сначала в собственной карете, выходит из нее в отдаленном пункте города, затем, отослав кучера, нанимает фиакр и только таким путем попадает наконец в notre petit nid[20], которое с таким вкусом меблировано очаровательным Raymond'ом. Тем более что если бы она ждала кого-нибудь, она непременно поглядывала бы довольно часто на часы. Но, может быть, она в горе? в нужде? в затруднении?
И вдруг, толкаемый какой-то пружиной, я подошел к незнакомке и приподнял шляпу. От испуга перед собственным поступком я почувствовал, как сердце у меня забилось, а во рту пересохло. Однако я нашел в себе силу, чтобы пролепетать:
— Простите мою смелость, сударыня, но я вижу, что вы находитесь в затруднении… Может, вы заблудились?.. Не могу ли я чем-нибудь служить вам? Она посмотрела на меня… Нет, не посмотрела, а именно, как говорится в романах, «смерила с ног до головы», смерила долгим и молчаливым взглядом и вдруг произнесла тоном решимости, не поддающимся никакому описанию:
— Вы или другой… все равно!.. И, быстро взяв меня под руку, она прибавила почти повелительно:
— Идемте.
На углу, как раз около того места, где мы разговаривали, стоял извозчик. Я вспомнил о том, что у меня в кармане болтаются два рубля с мелочью, предназначенные на уплату части квартирного долга.
— Не удобнее ли будет вам поехать на извозчике? — спросил я.
Не отвечая ни слова на мой вопрос, незнакомка поспешно вскочила в пролетку. Я стоял в замешательстве рядом. Она левой рукой подобрала под себя платье и нетерпеливо воскликнула:
— Да садитесь же наконец! Я поспешно повиновался.
— Куда прикажете? — спросил извозчик, перегибаясь с козел.
— Куда прикажете? — повторил я, как эхо. Боже мой! Какое прекрасное и гневное лицо вдруг обернулось ко мне.
— Разве мне это не все равно? Куда вы возите этих… — она запнулась и выговорила с брезгливым подчеркиванием, — …этих, вот этих женщин?
Я велел извозчику ехать прямо. Мы миновали Литейную, миновали еще какую-то улицу. Она молчала, а я, боясь с ней заговорить, недоумело соображал — кто же моя загадочная спутница: морфинистка, безумная или приезжая и обобранная кем-нибудь женщина, не знающая города и оставшаяся без средств? Может быть, она потрясена каким-нибудь слишком сильным горем? Может быть, она потребует в чем-нибудь помочь ей? Но — клянусь богом — ни одна нехорошая мысль не приходила мне в голову. Несколько раз незнакомка делала жесты, по которым я мог судить о ее нетерпении. Вдруг она отрывисто спросила:
— Что же, скоро мы приедем?
— Простите меня… я… я, право… я не совсем понял вас… я ведь не знаю, куда вам угодно. Она со злостью ударила рукой по зонтику.
— Ах, господи!.. Я вам сказала уже, что не знаю ваших грязных притонов…
В это время мы проезжали мимо вывески. Висевший над ней фонарь позволял прочитать: «Номера Занзибар, помесячно и посуточно».