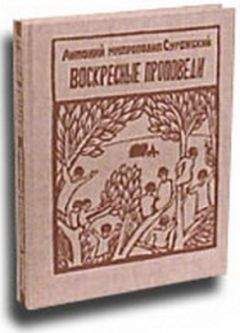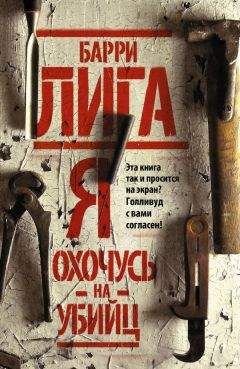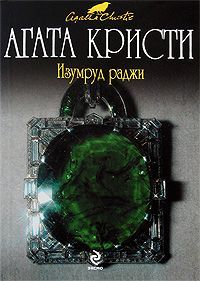Семен Юшкевич - Рассказы
— А тебя не пугает, что я только тебе принадлежу и так будет до самой смерти? Нет, я не то хотела сказать… Меня мучает, что я всегда — только я… Я отлично знаю, что испытаю, когда буду наблюдать восход солнца, или когда поплыву, а я хотела бы почувствовать, как ты это чувствуешь, или как полковник Иваницкий, как бабушка, или твой отец, что испытывает вот эта козявка, ласточка. Почему у тебя испуг в глазах? Мне скучно с собой, — с тоской сказала она. — Я прожила пол-лета, как козявка, и мне теперь страшно…
Всей мысли своей она не хотела открыть ему и замолчала, но волнение ее не проходило.
— Значит, нам пора уезжать, если ты уже до этих мыслей добралась, — очень серьезно сказал Иван.
— Да, надо собираться.
И началось то же, как перед отъездом из города: суета и томление, и разговоры о поэзии города… Милыми казались туманы, нависшие там над улицами, и шум, и утренние поездки на завод, звон колоколов, и все, все, что напоминало о городе.
* * *…Когда Елена вошла в свою квартиру, то в первую минуту не узнала ее. Комнаты, как будто, сделались больше, просторнее, а убранство их просто восхитило ее. Но тут случилось нечто необычное… Показалось ей вдруг, будто кто-то, которого она сразу не заметила, вошел в гостиную, стал в углу у окна и стоя, тут же умер… Даже мелькнуло его бледное лицо, очень знакомое, но чье — она не могла вспомнить, полузакрытые, еще светящиеся глаза и бессильно повисшие вдоль тела руки.
"Что это?" — подумала она и перекрестилась раз, а потом еще два раза.
Но когда Елена вошла в столовую, расцеловалась с бабушкой, которую тоже сразу не признала, когда вбежала в милую, уютную спальню, открыла окно и сыграла что-то на рояле и опять подбежала к окну и выглянула на улицу, — страх ее прошел.
Потянуло ее пойти гулять и захотелось встретить знакомых.
"Я хочу притворяться, — подумала она, — что важна жизнь, знакомые, осень, развлечения, а не то, что я знаю, ну, пусть меня, пусть меня".
…Она не успела оглянуться, как пролетела неделя. Раза два она выходила гулять в новом осеннем платье, но как нарочно, из знакомых никого не встретила. Потом зарядили дожди… Окна целыми днями были мокрыми, слезились, и из гостиной казалось, что весь город такой же — в слезах.
Иван приводил дела в порядок и редко бывал дома. Елена уединилась, даже к детям не выходила и не мучилась от этого… Ощущение козявки, которое она летом пережила, когда безоглядно отдалась мужу, детям, покорилась им во всем и себе ничего не оставила, прошло, и снова от нее, от ее сердца в бесконечность протянулась бездна, которую она уже ничем не могла закрыть, заполнить…
Неожиданно заболела бабушка… В столовой стало грустно без нее, окно, в которое она глядела, как бы умерло.
Бабушка лежала в кровати маленькая-маленькая, как ребенок. Она не говорила, не жаловалась, не беспокоила, только часто дышала, иногда хрипела. От этих звуков никуда нельзя было спрятаться, и где бы ни сидели, Иван и Елена посреди разговора останавливались, прислушивались… Врач приезжал каждый день, хотя сразу сказал откровенно, что она безнадежна. О том, что бабушка должна умереть, не жалел никто, — ни свои, ни навещавшие ее, и все же каждый, выходя из комнаты, испытывал грусть.
Будто что-то приятное улетало…
Вот была она здесь, никому не мешала, привыкли к ней, а она вдруг взмахнула крыльями, полетела… и обратно уже никогда не вернется.
По ночам Елена и Иван, слыша стоны бабушки, разговаривали о том, что и они умрут… Будут они как-то на улице и не догадаются, что в последний раз гуляют, видят людей, дома, — даже не попрощаются с ними. Придут домой и смертельно заболеют… Каждый ляжет в кровать, как бабушка, и станет ждать конца… И больше никогда они уже не спустятся по лестнице, не выйдут из ворот, не увидят извозчика на углу. Никогда больше не обвеет их милый ветер, не замочит дождь… Разговаривая об этом, оба необыкновенно сильно чувствовали любовь друг к другу, к детям, к бабушке, и глаза их были в слезах.
Бабушка умерла на рассвете. Все спали в доме, кроме сиделки, которая одна увидела, как бабушка, удивленная приподнялась на локтях, опустилась на подушки и дыхнула в последний раз, будто хотела свечу потушить.
Лицо ее не переменилось, и так же таинственно она улыбалась полузакрытыми глазами, словно говорила: "Я что-то узнала, а вам не скажу. Сколько раз надо было — рожала, сколько хлеба съесть — съела, сколько верст шагами отмерить — отмерила… Все я исполнила, а зачем? Теперь я знаю, а вам не скажу".
— Какое у нее лицо, Иван! — сказала Елена, когда увидела бабушку. — Неужели там так хорошо?
…Хоронили бабушку торжественно. Никто не плакал. Все лица были серьезны, и каждый чувствовал себя так, как обыкновенно на похоронах. Елена, Иван и дети, друзья и знакомые шли за гробом медленно, важно, но как обреченные, как стадо, которое смерть когда-нибудь уничтожит. И все, как бы сговорившись, думали о глупости жизни, о глупости суеты, модности, о ничтожности человеческих дел и стремлений… Возвращались же опьяненные и опять, будто сговорившись, все с удовольствием думали о том, что не они, а бабушка лежит в могиле.
На похоронах Елена в первый раз после приезда встретилась с Савицким, с Глинским и с другими знакомыми. Савицкий казался ей милым. Глинский на кладбище был мрачен, молчалив, серьезен, — но по дороге в город много говорил и, в конце концов, развлек Елену.
* * *Грустью началась и грустью кончилась эта осень. Но как только выпал первый снег и установилась санная дорога, неизвестно отчего, от нее ли, оттого ли, что город стал белым, что зазвенели бубенцы на всех улицах, но грусть эта рассеялась, исчезла…
Елена начала всюду бывать. Она посещала концерты, литературные вечера, ее постоянно окружала куча поклонников, среди них Глинский и Савицкий… Раньше ей было бы стыдно быть окруженной поклонниками, а теперь думала: "пусть". Она сама не могла бы сказать, что в ней переменилось, но чувствовала, что с весны стала иной, чутьем понимала, что и другие догадались об этом. Больше остальных, настойчивее и нежнее ухаживал за ней Савицкий. И ей он казался лучше всех. Нравилось Елене то, что он умел создавать настроение и крепко держать ее в нем.
Приятны были его чуткость и прямота; нравилось, что у него была старая жена и взрослая дочь, которая его презирала. Когда она думала о нем, он представлялся ей осенним золотистым днем, грустным, но приятным, тихо волнующим, или пожелтевшим листом на дороге, который крутит ветер и несет куда-то.
Хорошо сблизились они как-то случайно на балу… Был он здесь с женой и дочерью. В середине вечера он подошел к ней, когда освободился, и вторично поздоровался. Не глядя на него и ища кого-то глазами, Елена спросила:
— Вы не видели моего мужа?
— Представьте, нет, — давайте поищем его.
Он подал ей руку, и они пошли бродить по залам… Ей было жарко, и она попросила принести мороженого. Уселись они в маленькой уютной гостиной. Лакей принес мороженое.
И было обоим отчего-то странно. Из залы донеслись звуки мазурки. Смутный гул голосов не утихал ни на минуту, и можно было разговаривать о чем угодно. В гостиную входили и выходили: одни оглядывали Елену и Савицкого, другие же пробегали быстро, точно их преследовали.
— Вы кушайте, а я буду на вас смотреть, — сказал Савицкий, — потом поищем Ивана Николаевича.
"Его тоже зовут Иваном", — подумала Елена о Савицком и кивнула головой вместо ответа.
— Вы не поверите, до чего я волновался весь день, — произнес Савицкий. — Меня с утра осаждали больные, а я, вместо того чтобы начать прием, велел сказать, что меня дома нет, ходил по комнате и думал о том, что увижу вас на балу. И мне было стыдно самого себя… Я не мальчик, и, странно, чувствовал себя мальчиком и немножко презирал себя.
Она посмотрела на него большими, удивленными глазами, покраснела, и он подумал с нежностью: "Как ее украшает то, что она краснеет!"
Она медленно отвернула голову. В профиль Елена показалась ему еще милее.
"Он так говорит со мной, — думала в эту минуту Елена, — будто мы что-то вместе пережили, и я ему благодарна. Что бы он ни сказал, не чувствуется пошлости в его словах… И все-таки я бы не хотела этой интимности".
— Кушайте, — мороженое быстро тает… У вас руки, как голуби, — вдруг умоляюще сказал он, и даже сам удивился тому, что сказал: "руки, как голуби"… — Сейчас кто-нибудь придет и пригласит вас танцевать… Вы — странная, необыкновенная женщина. Вот об этом я весь день мечтал вам сказать.
Он, взволнованный, поднялся и проговорил торопливо, не глядя на нее:
— Самое же удивительное, что в соседнем зале сидит жена с дочерью, и там же ваш муж.
Они долго молчали, потом вышли из гостиной под руку, гуляли по залам и никого не замечали… Он рассказал ей о себе, о том, что у него нет ничего впереди. Говорил о том, как, в сущности, несчастны люди, и что жить без идеала, без какой-нибудь, хоть маленькой веры, — большое страдание… Это было так хорошо, так гармонировало с ее настроением.