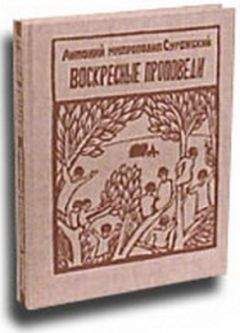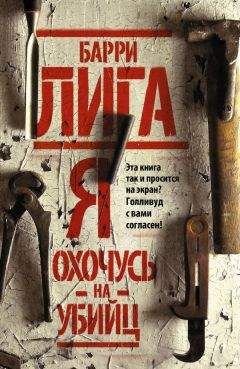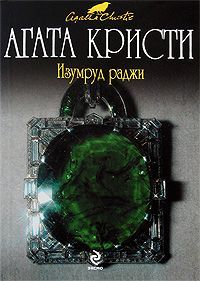Семен Юшкевич - Рассказы
— Да, да, — отвечает он желтым стрелам, летящим в золотое озеро, — мы поедем к морю. Доктор хорошо придумал.
А чуть поглубже идет свое, интимное, развивается другая мысль, бороздит его лоб темными морщинами и делает взгляд холодным, мертвым.
"Если бы я сказал Елене, о чем сейчас и всегда думаю, что ношу в душе, она закричала бы от ужаса, — как будто прочел Иван на стене… — Она играет для меня и уверена, что я счастлив. Я же чувствую себя трупом, который случайно начал двигаться, думать и говорить. Всю жизнь я ношу эту тайну, это свое знание о человеке, но не смею открыть Елене, чтобы не заразить ее души. А как прекрасно было бы, если бы мы могли говорить об этом, думать вместе. Спокойно подвигались бы мы к бездне, которая должна поглотить нас, наших детей и когда-нибудь весь мир".
Желтые стрелы все быстрее летят в золотое озеро и неожиданно исчезают. Иван опять думает: "Ведь почувствовать, что между живым и не-живым нет разницы, значит понять все, все загадки. Понять, это значит сказать себе: нет разного, все единое, и потому откажемся от стремлений, откажемся от расценок. Понять это, значит понять, что вся духовная жизнь, наука, искусство, религия созданы для того, чтобы затемнить эту главную мысль, и что они точно игрушки в руках детей, отвлекающие от главного. Все это несомненно, хотя я и знаю, что искусство, наука и мораль — хорошие и занятные игрушки".
Елена все играла, и он, когда надо было, улыбался ей и отвечал, но с вдохновенной радостью думал теперь о том, что смерть существует.
"Чего бояться, если есть смерть? Ужас был бы в вечной жизни, в сознании невозможности примирить противоречия, — смерть разрешает все заблуждения. Слава Богу, есть смерть, привет ей! Вот скоро, рано или поздно, придет она ко мне, к Елене, к детям и погасит нас… В этом — моя радость, моя единственная вера. И радость эта покрывает даже любовь, потому что смерть выше любви".
От усталости он незаметно задремал… Желтые стрелы все падали в золотое озеро… Упала последняя, вынырнула и поплыла прямо, чуть колышась на золотой ряби.
Елена, играя, вдруг почувствовала, что он заснул, как будто ей сказали тихо:
— Заснул…
И, неизвестно почему, Елене вдруг показалось, что с этой минуты начинается нечто новое в ее жизни. Она готова была поклясться, что так и будет. Завертится она, как-то закружится и, так вертясь, упадет где-нибудь мертвая.
Она перестала играть, поднялась и на цыпочках вышла из спальной, не зная, что с собой делать. Потянуло ее в детскую. Дети спали крепким сном. Она долго стояла перед ними, вглядываясь, как будто не узнавала их, словно ей показали обоих через сто лет.
Но зачем же она родила их? Для чего им жить, и во имя чего они будут волноваться, стремиться? Неужели же, чтобы прийти к тому, к чему она пришла, увидеть бездну, и заглянуть в вечность.
Испуганная, она перекрестила их головки… Ведь их, как и ее и всех людей, кто-то вел во тьме. Но если бы с детства открыть им правду, они выросли бы другими: прекрасными, настоящими людьми, которых еще нет в мире, но которые будут непременно. Не теми, кому ставят памятники на площадях, и не теми, которые заняты наукой, творят религии, потому что и эти живут во тьме и учат, как ходить во тьме, чтобы не разбиться.
"А я хочу разбиться, — с мучительной страстностью подумала она, — потому что мне совсем не дорого благополучие мое, мои удобства, мои радости. Я не хочу единения с людьми, потому что эти еще не люди, и не желаю знать их науки, морали, их законы".
И ей вдруг представилось, что все люди, сколько их есть в мире, взявшись за руки, образовали большой круг, опоясали всю землю и играют в какую-то игру… И вот она опустила руки, вышла из круга, и цепь замкнулась перед ней. Все кружатся, играют, а она стоит в стороне, уже свободная от их законов, идеалов, мечты.
Если бы ее поняли правильно, если бы каждый вышел из круга, то наступил бы конец человеческой комедии. Если бы так, если бы…
…А через неделю началась опять мелкая жизнь, рождавшая ту пустую и сытую радость, столь страшившую Елену, но от которой она еще не в силах была отказаться.
Пьют чай. Иван сидит в кресле. Говорят об отъезде, о том, что надо накупить всяких вещей, не забыть бы того, или другого.
Разве мысль доставляла Елене когда-нибудь страдание, вызывала к жизни новые трепетания сердца? Ее мозг спит. Она снова в круге и сейчас говорит быстро-быстро:
— Надо похлопотать о билетах, а потом в магазины. Куплю тебе дорожное пальто и себе, и детям. Вечером вызовешь управляющего и поговоришь о заводе… — и все в том же роде.
"Я в ту ночь очень испугалась, — думает Елена, — и я, как улитка, спряталась в своем домике. Оттого я теперь такая мелкая, маленькая. Но пусть буду маленькой, пусть чувствую, как козявка, мне хорошо, и я не откажусь от этого".
…А еще через неделю Елена стояла у окна, в купе вагона первого класса, и внимательно разглядывала публику, заполнившую перрон. Тут же были отец и мать Ивана, родные и знакомые. Она улыбалась всем. Кто-то протискался сквозь толпу и подал ей букет цветов… Это был Глинский. Она кивнула ему головой, — он значительно поцеловал ей руку.
И больше ничего…
Иван сидел на диване, напротив — дети. На столе лежали цветы, коробка конфет.
Неожиданно прозвучал третий звонок. Паровоз заревел, вагон качнуло, поезд дрогнул, и перрон с людьми вдруг медленно поплыл назад, развертываясь во всю длину и показывая большие, освещенные окна буфета, телеграфа, конторы начальника станции.
"Теперь я опять твоя", — хотела Елена сказать Ивану, но удержалась и так и осталась прислонившись головой к стеклу окна, пока тьма не выдвинулась перед ней черной отполированной стеной.
Тогда она вздохнула, села и поднесла букет Глинского к лицу…
* * *В конце августа Иван стал торопить Елену с отъездом… Там в городе, в мае одно время чувствовалось так, будто только жизнь у моря может обновить, исцелить. И все оттого казалось поэтичным: сборы, езда по магазинам, разговоры о чудных солнечных утрах, о пляже, о купании, о новых знакомых. Хотелось пышной зелени для глаз, и так манило увидеть безграничную даль, море, которое почему-то казалось синим и круглым, купол неба, с белыми-белыми облачками, и зарева закатов, длинные аллеи, и так сердце жаждало тишины, мирного покоя, что каждый лишний день в городе, каждый час томили особенным томлением и грустью: уходят дни, часы и не видишь этого…
И все исполнилось, как представляли себе, как рисовали в мечтах. Даже лучше. В это лето Иван и Елена любили друг друга, как никогда еще.
Но лишь только подуло холодным ветром и появились первые галки, сразу от моря, от уставшей, пыльной, пожелтевшей зелени, от серого, однообразного пляжа и испорченных за лето аллей, от четырех комнат, которые занимали Галичи, дохнуло такой скукой, и столь чужим показалось окружающее, что обоих потянуло домой. И все уже после этого сделалось ненужным, непоэтичным, как бы нарочито придуманным, даже смешным: и парное молоко по утрам, и душистое, пахнувшее сливками масло, и купанье, прогулки, разговоры с курортными знакомыми. Пугали вечера своей неуютностью, тьмой и враждебностью. Пугал ропот моря. И каждую ночь было тяжело думать, что утром снова проснешься здесь, а не дома. Больше всего Иван и Елена скучали по бабушке. Казалось, что, если бы она была здесь, сидела у окна, глядела на море, все опять ожило бы, получило смысл и прежнюю прелесть… И от грусти разочарования, от безделья у них происходили такие разговоры:
— Вот видишь, Лена, — сидя на террасе и показывая на газету, говорил Иван, — вот видишь, каждый день вычитываешь как будто новое, а нового-то собственно и нет. Люди те же, и интересы те же… Сто лет тому назад, и тысячу, и десятки тысяч лет назад происходили точно такие же события, как вчера: люди по утрам узнавали о них, обсуждали, как мы с тобой, — жизнь же не подвинулась ни на шаг вперед.
"Я знаю, почему он это говорит, — думала Елена, — и надо собираться домой".
— Что знали или не знали в старину, — продолжал Иван, — то знают и не знают теперь. Все говорят: культура, культура, человечество идет вперед, а где эта культура, в чем она выразилась — ни один человек, если его хорошенько расспросить, не скажет. Кто только не появлялся в мире, от Конфуция, Будды. Христа до Канта, и как было скверно, а главное бессмысленно, так оно и осталось. На заре истории человечество не знало, кто оно и зачем, и сейчас этого не знает…
— Да, — отозвалась Елена. — Люди играют в какую-то игру и, как дети, воображают, что они и игра их самое важное в мире, но в сущности страшная скука от жизни… от всего!
Может быть, от тоски, а может быть, от чего-нибудь другого, она после долгого молчания вдруг неожиданно сказала:
— А тебя не пугает, что я только тебе принадлежу и так будет до самой смерти? Нет, я не то хотела сказать… Меня мучает, что я всегда — только я… Я отлично знаю, что испытаю, когда буду наблюдать восход солнца, или когда поплыву, а я хотела бы почувствовать, как ты это чувствуешь, или как полковник Иваницкий, как бабушка, или твой отец, что испытывает вот эта козявка, ласточка. Почему у тебя испуг в глазах? Мне скучно с собой, — с тоской сказала она. — Я прожила пол-лета, как козявка, и мне теперь страшно…