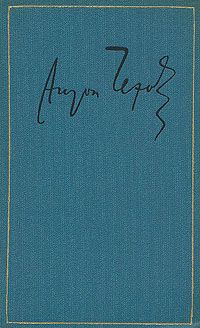Антон Чехов - Том 18. Гимназическое. Стихотворения. Коллективное
— Палата [№ 17] номер семнадцатый? — спросил тихий голос.
— Самая последняя направо.
В комнату вошел высокий господин в черном длинном сюртуке и в pince-nez, красивый, бледный, с [о странно неподходящими для такого визита] печальными усталыми глазами.
— Сережа! — сказала Елена Ивановна задыхающимся голосом.
[38]Она засмеялась, и в то же время глаза ее заблестели от слез[ами]. Она взяла его руку и потянула к себе доверчивым любящим движением, ожидая, что он поцелу[я]ет ее. [Гость отвел ее руку и опустился на стул.]
Елена Ивановна почувствовала значение этого взгляда.
— Нет, скажи мне, отчего ты так странно посмотрел на меня? — покраснев, повторила она[39].
— Я сказал, что ничего, и оставим это.
Они опять замолчали, но на этот раз в молчанье почувствовалось что-то жесткое, недоброе, точно замолчали они для того, чтобы не сказать друг другу неприятного.
— Что же, скоро домой? — начал он. — Здесь так неприятно, точно в тюрьме. И потом, отчего ты не одна?
— Нет, уверяю тебя, Сережа, здесь хорошо. Так все внимательны, добры, и за нее я спокойна. А соседка мне нисколько не мешает, она такая интересная, типичная!
— Ну, меня бы это страшно стесняло… [на твоем месте. Мне и теперь неприятно.]
— Отчего? Она очень славная, так мучилась, бедная! Ребенок вдвое больше нашей, зовут ее Лелей. А как же мы нашу назовем, Сережа?
— Да не все ли равно?
Елена Ивановна мечтательно посмотрела на маленькую кроватку. Тут, за белым пологом лежало [то] существо, которое пробуждало в ней какие-то новые надежды, новые ожидания; и от этих ожиданий жизнь, начавшая одно время казаться ей изжитой, слишком понятной, состоящей из отдельных мелочей, — опять стала представляться загадочной, цельной, новой — одним словом, такой, какой она всегда кажется в своем начале.
— Ты будешь ее любить, — тихонько сказала она, и нельзя было понять, задавала ли она вопрос или просто мечтала вслух.
— Я вообще люблю детей, — ответил он, — что за несправедливость любить своих детей больше чужих.
Елене Ивановне хотелось сказать, что тогда и любовь к взрослому — несправедливость; [но это возражение замерло в ней;] несколько минут она смотрела на его бледное лицо с устало прищуренными глазами, стараясь видом этого дорогого лица усмирить протест в своей душе; она знала, что для этого ей нужно было посмотреть на его висок с вьющимися седеющими волосами, почему-то этот висок всегда вызывал в ней особенную любовь и жалость.
— Ты устал, Сережа? — спросила она [, а глаза ее договорили остальное, что пряталось в душе].
— Да… впрочем, я как-то привык к усталости; и больше физической усталости меня тяготит этот недостаток свободы, эта необходимость делать не то, что хочется.
Елена Ивановна подавила вздох и слегка отвернулась.
— В университете опять неспокойно, — заговорил он. — Наше положение самое дурацкое, пока ничего не выяснилось, мы, разумеется, читаем, а уже начинаются враждебные взгляды, свистки…
Елена Ивановна [оторвалась от своих мыслей,] посмотрела на него, стараясь проникнуть в настоящий, не внешний смысл его слов и, точно проснувшись, переспросила:
— Что ты сказал? Ах, да, об университете! Расскажи, пожалуйста, что у вас там?
[И разговор перешел на общие темы.]
Часы в коридоре гулко пробили пять.
— Ну, Лелик, я должен идти, надо пообедать, потом заседание. И завтра я прийти не могу.
Она испуганно смотрела на его протянутую к ней руку, не веря, что он уже прощается.
— Разве нельзя еще немного? — слабым голосом произнесла она.
— Не могу, Лелик, ты же знаешь… — Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Потом подошел к маленькой кроватке и, подняв полог, опять молча посмотрел на маленькое пушистое личико. И затем так просто, как будто тут не было ничего особенного, он взял шляпу и вышел…
После его ухода Елена Ивановна несколько минут лежала неподвижно. В ее счастливой ясной душе что-то смутилось, точно в спокойную воду пруда бросили камень, и по ней заходили, разбегаясь, волны… [Такие же неспокойные волны задрожали в ней…] Стемнело, в коридоре уже зажгли лампы, а в палате № 17 было полутемно. Жена портного тихонько напевала:
Откуда-то доносился [звонкий] звук перемываемой металлической посуды, сквозь который прорывались голоса и смех. Дневная жизнь в палате и коридоре кончалась, вечерняя еще не началась. А в этом затишье, которое приносят с собою сумерки, всегда сильнее говорят темные мысли…
«Полосатка» Феня внесла лампу и в другой руке поднос с чайниками.
— Чайку вам испить, — сказала она, расплываясь в своей обычной праздничной улыбке.
— Вот, Феня, это отлично, что вы принесли чай, — сказала Елена Ивановна, радуясь свету, от которого мгновенно стало светло и на душе.
— Спит? — спросила Феня [, у которой твердо установился шаблон разговора с матерями].
— Да, Феня, и давно уже, с половины второго, — ответила Елена Ивановна, принимаясь за кружку с молоком [, которую Феня поставила ей на грудь], — я уж соскучилась даже.
— Придеть время — и встанеть, — поддерживала разговор Феня.
— Твоя-то хошь время знает, — заговорила жена портного, говорившая ты всем в палате, начиная с докторов и кончая полосатками, а моей только и дела что [на сиське висеть] сосет… Что, Феня, матушка, чайку-то даешь?
— Сию минутую.
Феня приняла кружку у Елены Ивановны и, налив ей ча[й]ю, ушла за ширмы.
— Што это дохтурши сегодня не было? — спросила у ней Тимофеева.
— В перционной были, женщине одной там руку резали.
— Ах ты, страсти! Уж операции эти — беда одна!
— Так что же! Порежут это, а потом и заживеть, — объясняла Феня, воспитанная в духе уважения к хирургии.
— Заживет! Моя знакомая одна от операции в сырую землю пошла. Не спите? — обратилась она к Елене Ивановне.
— Нет, нет!
[40]Елена Ивановна протянулась под полотняной свежей холодящей простыней и, сознавая снова всю полноту и ясность своего счастья, своего вновь пришедшего в равновесие настроения, приготовилась слушать рассказы Тимофеевой. Не все ли равно, что та станет говорить? Елена Ивановна будет слушать, изредка вставляя вопросы, будет смотреть на белый потолок, на ясный круг [на нем] от лампы, на маленькие кроватки под белыми пологами. Может быть, будет слушать, а, может быть, просто помечтает [под монотонные рассказы], и мечты эти будут неопределенные, глупые, детские, вроде того, что у девочки черные глазки [, и, верно, ей пойдет красный капор]…
Жизнь — несправедливая, беспощадная, платящая за месяцы счастья годами серых дней и не[сча]настья, — забыта, и только прекрасное, как рассвет нового дня, настоящее грезится ей.
[Да и не в том ли счастье, чтобы обманываться и не знать будущего?..]
Комментарии
Архивохранилища
ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей (Москва).
ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва).
ГПБ — Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей (Ленинград).
ДМЧ — Дом-музей А. П. Чехова в Ялте.
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Рукописный отдел (Ленинград).
ТМЧ — Литературный музей А. П. Чехова (Таганрог).
ЦГАЛИ — Центрапроизведений заслуживающим премиильный государственный архив литературы и искусства (Москва).
Печатные источники
В ссылках на настоящее издание указываются серия (Сочинения или Письма) и том (арабскими цифрами).
Вокруг Чехова — М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. Изд. 4-е. М., «Московский рабочий», 1964.
Записки ГБЛ — Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Вып. VIII. М., Госполитиздат, 1941.
Летопись — Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М., Гослитиздат, 1955.
ЛН, т. 68 — «Литературное наследство», т. 68. Чехов. М., изд-во АН СССР, 1960.
Письма — Письма А. П. Чехова в 6-ти тт. Изд. М. П. Чеховой. М., 1912–1916.
Письма, изд. 2-е — Письма А. П. Чехова. Изд. М. П. Чеховой. Т. 1–3. Изд. 2-е. М., 1913–1915.
Письма Ал. Чехова — Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. Подготовка текста писем к печати, вступ. статья и коммент. И. С. Ежова. М., Соцэкгиз, 1939 (Всес. б-ка им. В. И. Ленина).