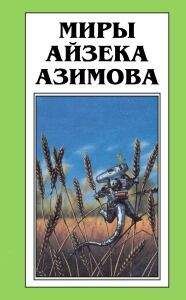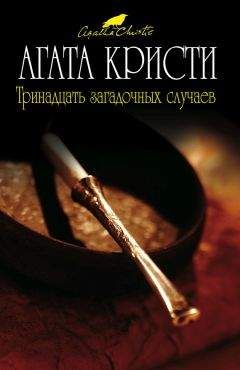Константин Леонтьев - Египетский голубь
И после этгого мне писать об этой Маше! Думать о любви, полуидеальной, получувственной, делать зачем-то усилия ума, чтобы вспомнить, что было прежде и что было после...
Да, если бы вспоминалось всегда ровно и легко, то отчего ж бы не рассказывать? Это правда моей жизни, это было.
Но не всегда вспоминается легко, надо думать, надо мыслить, — взот принуждение, страдание. Зачем страдать? Кому тажое страдание полезно? И сам я не знаю в тишине моей медленной, предсмертной тоски, что мне приятнее — все забыть или все вспомнить.
Приятно всгпоминать только то, что помнится без усилий, не делать усилий, вот теперь земной рай моей старости вот мой идеал!
И все, что я вижу теперь вокруг себя, и все, что я слышу, и все, чего я желаю, так не похоже на то, что я видел тогда, на то, что я тогда слышал, на то, чего я желал в то время.
Я не вижу пред собой ни фиалок, которые расцветали так рано в сырых расселинах между камнями лестницы на моем дворе; ни садов блестящей шелковицы, ни минаретов, ни старых и прочных каменных мостов с золотыми арабскими надписями над широкою и мутною Марицей. Теперь я вижу пред собой белый снег и высокие сосны... Одно и то же с утра и до вечера. Я вижу их только из окон, и выйти, как другие, не смею и не в силах. На дороге, недалеко от окна моего стоят русские дровни; молодые крестьяне расчищают дорогу, они кладут снег в сани и свозят его со двора. Быть может, и я решусь выйти на воздух. Вот они бросили лопаты и начали играть, бороться и кидать друг в друга снегом. Какие у них здоровые, красные, веселые лица... Как они радостно смеются, как они еще молоды все трое... И как я отвратительно стар, не годами, а душой и силами!
Мне даже ничуть и не завидно им! Я не хочу смеяться.
А это ведь так близко все, это все мое: и двор мой, и снег мой, и лошади эти мои, и молодые люди эти служат мне за мои деньги. И все это мне чуждо... Я рад покою и безмолвию моего теплого и просторного жилища. Безмолвие! беззвучное, бесстрастное, безгласное забвение за морем глубоких снегов.
Я больше ничего не ищу. Все прошлое отравлено; все новое мне чуждо.
И вот, наполовину уже перешедший в невозвратную вечность, я должен писать о таких веселых днях тщеславного ничтожества.
И в самом деле, не правда ли, как это пусто все? Не похожа ли тогдашняя жизнь души моей на букет искусственных цветов, слегка обрызганных духами?
В моей собственной жизни были года и события совсем иного рода, иной силы и значения.
Зачем же я выбрал это время, эту Машу, эту красивую, быть может, но мелкую и бесполезную пустоту?.. Не знаю».
«Моя предсмертная тоска так нестерпима, умение мое, мое немое отчаяние в иные дни так ужасны, что исцелить их не может ничто...
Я страшусь смерти, а жизнь мою, почти всю проходящую теперь в этом жалком страхе за мое существование, нельзя назвать и жизнью... Высшая радость моя — это тишина и возможность, не заботясь ни о чем, считать с позорною болью испуганного сердца дни, часы, минуты, быть может, которые осталось мне еще дышать!
И этот тесный гроб! и эти гвозди!., и земля!., и боль, и тоска последней борьбы...
Кто, кроме святого человека, забывшего плоть, может помириться с холодным ужасом этого близкого и неизбежного конца?..
А я, как неразумный зверь, держусь изо всех сил моих за мое никому уже не нужное существование... держусь за него без угрызений, без стыда и пред людьми, и пред самим собою. На что мне стыд? На что мне люди, кроме тех людей, которые мне служат и которым, слава Богу, дела нет до моего внутреннего достоинства.
Какой же смысл будет иметь для меня принуждение в труде, подобном этому рассказу?..
Правда, была одна черта в истории моих сношений с этою женщиной, черта дорогая и редкая в жизни... Мы расстались без пресыщения, без горечи, без распрей, без раскаяния, безо всякой примеси того яда, который таится почти всегда на дне благоухающего сосуда восторженной любви...
Других я любил гораздо сильнее, продолжительнее, самоотверженнее, быть может, но ясности и чистоты воспоминаний нет...
И что же? Неужели только моя „честность" или ее »чувство супружеского долга" восторжествовали над легкомысленною страстью? Увы! нет! нет!.. Разгадка здесь иная, — гораздо более таинственная.
И вот я решил не принуждать себя более... Если эта разгадка должна быть обнаружена, если суждено ей быть достоянием праздного любопытства посторонних, то желание продолжать рассказ явится у меня само собою, и я его кончу.
А если нет — нет!»
Этим кончаются отрывки в записках Ладнева. «Желание явилось», и рассказ его принял опять довольно правильное течение.
XXI
Я об Велико не забыл. Я долго не писал о нем. Это правда. Писать разом нельзя обо всем том, что в жизни совершается почти в одно и то же время.
Я его видел каждый день и постоянно о нем думал и заботился. Наш vis-à-vis — женатый польский офицер, которого так опасался старик Христо, скоро перестал тревожить меня; он выходил, выезжал с женой в карете; до нас он ничуть не касался; Велико, сам испуганный этим соседством, дверь теперь никому не отворял; напротив того, он прятался подальше, как только раздавался стук железного кольца на наших воротах. Кавассы наши, хотя и мусульмане, были очень верны. Посторонние турки у меня бывали редко; на визиты пашей я, как секретарь, претендовать еще не мог; младшие турецкие чиновники и беи, хотя и любили общество русских, но, опасаясь, чтобы свое начальство не подозревало их в чем-нибудь политическом, редко позволяли себе близкие сношения с иностранными агентами и помощниками их.
Все это было бы не страшно. Но был один человек в Адрианополе, которого посещения стали меня опять в это время тревожить. Это был все тот же неугомонный Вил-лартон; по мере того как Богатырев все больше и больше старался отдалить его от себя, он все чаще и чаще стал звать меня к себе, угощал обедами и хорошим вином, ездил со мной верхом за город и сам заходил ко мне не раз. Вот он-то и казался мне опасным, если не для самого Велико, то для «приличий» нашей службы и для сохранения хороших отношений с местною властью. Велико мы могли бы еще кое-как спасти, но удобно ли будет, например, получать «ноты» о том, что мы скрываем у себя дезертира? И как отнесется посольство наше к нашим действиям, если мы не сумеем быть ловкими? Наше начальство было умно и требовало ума и от нас; этого рода дела надо судить по-спартански: «можно и даже должно иногда украсть, но не должно попадаться». Турки также готовы были нередко смотреть сквозь пальцы на наши проделки («les intrigues moscovites»), но лишь при условии соблюдения с нашей стороны хоть внешнего уважения к их законным правам. Думая обо всем этом, я ни на минуту не забывал и того, что скоро конец моей безответственности и недалек тот день, в который я провожу Богатырева верхом за город до садов Хадум-Ага и вернусь в город один, хозяином русских дел во Фракии. Я предвидел также, что некоторые крайности, в которые впал недавно Богатырев по отношению к Виллартону, облегчат во многом мою будущую деятельность.
Богатырев, при своей хитрости и здравой осторожности, увлекся на этот раз и ежедневными удачами своими и каким-то личным капризом жестокости. Он через меру терзал самолюбие английского консула и как бы тешился его несомненными страданиями. Я думаю даже, что впечатлительный Виллартон в течение предшествовавших двух лет политического согласия и тесной личной дружбы отчасти и сердцем по-товарищески привязался к Богатыреву, и тем больнее были ему обиды, почти ежедневно наносимые ему нашим упрямым и гордым москвичом.
Я говорю — Богатырев перешел далеко и за черту приличий, и за черту обязательной борьбы. Дальнейшая Жестокость к расстроенному Виллартону была не только не нужна для нашего русского дела, но могла стать и вредною. Мягкие и уступчивые люди становятся иногда ужасны в мести своей, когда видят, что противник рассчитывает на эту слабость. Я хотел поберечь для себя или, лучше сказать, для своей службы Виллартона; я находил, что, сохраняя с ним лично хорошие отношения, я могу еще легче действовать против него тайно, при тех хороших помощниках, которых мы имели в городе в среде христианской.
Все это так, но как бы он не дознался при своих слишком частых посещениях, что Велико не просто униат, возвратившийся к Православию (это законно), но что он беглец из полка Садык-паши? Опасения мои почти оправдались.
Особенно один визит английского консула заставил меня задуматься.
Богатырев незадолго пред этим переполнил чашу его терпения. Случилось это вот как.
От радости, что сам Антониади пригласил меня читать жене своей Жуковского, я медлил. Я все боялся испортить дела свои. Я думал: «и так хорошо! на что торопиться?»
После праздника в Порте, где она повторила, что ждет нас, я собрался. Надо было звать с собой Богатырева. К тому же та часть Жуковского, в которой была «Эолова Арфа», была у него. Я зашел к нему и сказал ему: