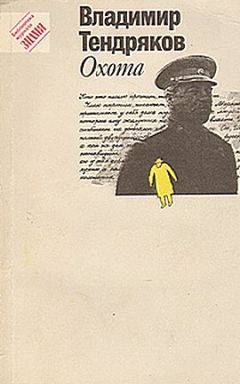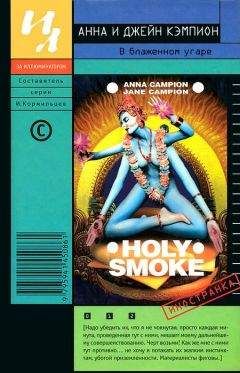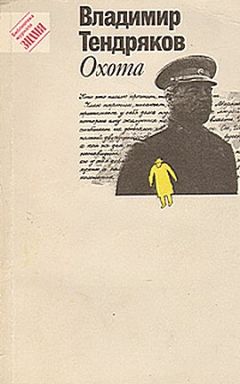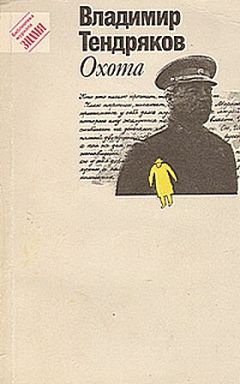Станислав Шуляк - Лука
Лука постарался тогда проследить за его взглядом, но, не зная цели наблюдений, видел лишь ноги самых обычных прохожих, стены домов, бок едущего автобуса с полузадушенными их всегдашней беззаботностью пассажирами, и бегущего по тротуару, пребывающего в мире его настырного обоняния, с понурой головою, шелудивого, бездомного пса. Человек сурового вида, когда наконец оторвался от окна и обернулся к Луке, весь как будто светился каким-то тревожным внутренним напряжением.
Луке потом на лице укрепили нос деревянный узкими мягкими ремешками, так что он точно тогда сделался вылитым академиком Платоном Буевым, и человек сурового вида так даже отступил на шаг назад, довольный собственной работой и одновременно пораженный неожиданным сходством (скорее более даже безусловным, чем умозрительным, и хорошо еще только, если не более, чем поверхностным).
- Хотел бы я еще дать вам гранату, - говорил он и потом неожиданно приблизившись к Луке и поднявшись на цыпочках, с каким-то сдержанным чувством торопливо поцеловал в лоб молодого человека. - На всякий случай. Потому что нам уже прежде было много известно их недобросовестных и гадких затей. Да только - нельзя гранату. Это совершенно нисколько нельзя точно, знаете ли... Потому что также еще и покойный Декан всегда возражал в таких случаях. Но вы-то зато теперь знаете, как это нужно с ними несомненно разговаривать, так чтобы нисколько не уступать им в своей убежденности. Пускай они знают, что и у нас ее тоже всегда никак не меньше точно, по рассуждению...
Вечером Лука сидел в небольшой кухне узкой буевской квартиры, и Зилия Иосифовна кормила его с менажницы всевозможными салатами и холодными блюдами, поминутно подливая в них еще каких-то тончайших, жгучих соусов. Свет единственной лампы, висевшей высоко над столом на коротком проводе, да еще подвешенной как будто бы наспех, более всего оседал только на потолке в виде яркого округлого пятна, лениво еще потом нисходил на стол, за которым сидели Лука и Зилия Иосифовна, и уж совсем немного доставало его до пола, почти ничего, столь непреодолимым оказывалось это небольшое жилое пространство; под столом, на полу и по углам здесь теперь копошились самые настоящие, густые сумерки, так что тогда нисколько невозможно было под столом разглядеть ни своих ступней, ни даже щиколоток или колен, словно бы теперь вовсе потонувших во мраке.
По сторонам от стола, около стен, стояли здесь комнатные растения в горшках - все акклиматизированные тропические виды - и тени от них, падающие на стены, были все точно фигурами темных людей в угрожающих позах, иногда шевелящимися или, напротив - притаившимися и замершими, в чем даже более еще казалось угрозы.
- Я теперь, наверное, гораздо больше еще любила бы свои цветы, бывало, говорила Зилия Иосифовна всем окружающим, соглашавшимся выслушивать ее рассуждения и воспринимать логику, - в особенности оттого точно, что они только лишь все есть бесполезная, противопрактическая прихоть природы, если бы не их безобразные тени, все совершенно замешенные на весьма отчетливой угрозе, которая, впрочем, обычно придает наибольшее своеобразие красоте.
И, может быть, еще, конечно, Зилия Иосифовна, как говорится, всегда слишком много внимания придавала точно своим недостоверным фантазиям, но все же, когда еще она признавалась, что фигуры эти на стенах, бывает иногда, касаются в полумраке ее тела или хватают за одежду и за руки, когда ей изредка случается вечером выходить на кухню и зажигать свет, то трудно было тогда все-таки совершенно не поверить в возможность невымышленности ее восприятия, на безусловной справедливости которого всегда настаивала Зилия Иосифовна.
Человек никогда не может знать точно, что из его прежнего опыта впоследствии обратится в более всего ему необходимое в его новых заботах, а Луке теперь весь его непродолжительный пока опыт руководства крупными научными легионами с их старательными потугами разнородной мысли придавал множество самой безусловной, властной уверенности, он был вдумчив, свободен и находчив по причине укрепившегося духа, и не успевала еще Зилия Иосифовна завести свою обыкновенную подозрительную проповедь, тем более, в особенности - самого разъедающего свойства, как у Луки уже был готов точно какой-либо уклончивый, изощренный, глубокомысленный по видимости ответ.
- С тех пор, как - свобода, - говорил деликатно жующий Лука под пристальными взглядами Зилии Иосифовны, вспомнивши все свои глубокие умственные инструкции и зная тоже, что не он один должен только слушать, - с тех пор, как свобода, - снова неторопливо повторил он, - (хотя ее и не надо), с тех пор, как жизнь несомненно объявили ценность, с тех пор разнообразные человеки во множестве закишели по земле. И не много смысла в их безобразных ежедневных действиях, и не много ума в их жизнях... И вот я теперь думаю, как сделать, чтобы не так кишели...
- А та теперь ешь еще, Платошик, ешь, - говорила Зилия Иосифовна, сделавши руками какое-то поспешное суетливое движение над столом от одного прибора к другому. - Ты не смотри, я тебе еще положу. Все самые лучшие изобретения в мире (пускай бы даже сделанные с целью истребления того), они делаются только от хорошей пищи. И, если правда, как они говорят, что наука каждый день открывает какие-нибудь чудеса, Платон, то половина из них точно твои. Другой же половины на них на всех - и то им слишком много придется, хотя и им, конечно, иногда случается что-то изобретать тоже. Я заходила к тебе сегодня в Академию, чтобы проверить, живой ты еще, или уже у них там за стенкой томишься точно.
- Нет, нет, - поспешно пробормотал Лука. - Я работал, работал...
- О, у вас в Академии такой удушливый воздух, - увлеченно говорила Зилия Иосифовна, - такой удушливый, что, кажется, его и вовсе не нужно для свободного дыхания. Ты знаешь, Платон, я иду точно сегодня по Академии, так там просто нечем дышать. Я задыхалась на каждом шагу. Я иду и думаю: я сейчас умру или еще что-нибудь. Или упаду в обморок. Я думаю: только бы мне не упасть в обморок. Только бы не упасть. Но потом все-таки упала. Представляешь, Платон, прямо на пол. Лежу я, а потом один глаз незаметно приоткрыла и смотрю: подойдет ли кто-нибудь поспособствовать женщине в беспомощном положении.
Смотрю: один прошел - не остановился. Другой прошел, посмотрел в мою сторону и тоже - мимо. А третий, не поверишь, даже ногой меня осторожно потрогал - мягко ли? Я не выдержала еще вовсе такого вопиющего бесчеловечия, поднимаюсь тогда и заявляю им (да еще с полным сознанием своего превосходящего умственного достоинства): "А что?! У вас разве руки и ноги отвалились бы, если поспособствовать беспомощной женщине? Труд, наверное, великий - просто подойти и спросить, не надо ли чего?!" А они, представляешь, стали так, глаза на меня вылупили и говорят: "Ой, тетенька, а мы думали, что вы пенек. Что - березовый пенек!"
"Я вам не тетенька! - кричу тогда я. - И не березовый пенек! Я Зилия Иосифовна Игуменьева-Стернина! Жена великого ученого! А вы - "невежды в исступленье, бранящие науки и ученья!" Предатели мира! Самые ничтожные из ваших известных лепрозориев для здоровых!.. Ваше ничтожество даже гораздо более превосходит степень моего презрения к вам!.. Вы-то, разумеется, не намерены, вроде яблочек, падать от яблонек далеко".
- О, да, да, Платошик! - в отчетливом умственном оживлении артистически хлопнула в ладоши Зилия Иосифовна. - Это будет хорошее изобретение - чтобы не так кишели... "Зачем же вы нас, тетенька, - говорят они мне тогда еще бесстыдно, - так строго судите за ошибку?! Вполне, разумеется, простительную при некотором нашем известном снисхождении, которое вы и сами теперь, наверное, не отказались бы продемонстрировать для более безусловного нашего посрамления". Но даже это не могло тогда поколебать моего ожесточения точно... Я теперь думаю, что мы сами всегда станем определять простительность и непростительность всех их бессмысленных ошибок, а также еще недостойных нарочитых действий их обыкновенного ежедневного мастеровитого бесстыдства. А вот еще у них-то там в мире гораздо более просто можно всегда навредить, нежели наделать добра.
- Да, они бы там точно, - рассудительно говорил Лука, - корыстно затевали все даже из самых лучших человечьих свойств более всего выставлять снисходительность в мире в свои услужливые рьяные адвокаты, вовсе самим не стремясь к исправлению. И тогда даже немощи свои они полагают пригодными, чтобы только им не меняться вовсе в направлении особенного благонравного улучшения, в чем они также еще не преуспели нисколько за все их безусловно обозримое былое...
Зилию Иосифовну хорошо, разумеется, порадовало такое красноречивое согласие Луки.
- Можно было бы еще тебе, конечно, положить шпината, - задумчиво говорила Зилия Иосифовна. - Да только ты-то его, наверное, не захочешь, хотя это и неправда, что он у нас плохой.
- Да нет, отчего же, - неслышно говорил Лука. - Но только позже. Позже...