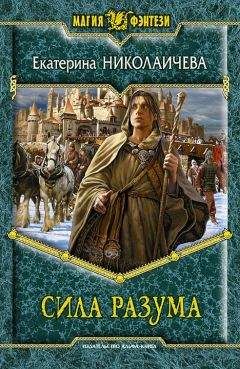Марк Колосов - Товарищ генерал
— Пройдемте вместе к начальнику штаба! — пригласил он.
Когда они вошли в кабинет начальника штаба, там находился Казанский.
— У вас что? Срочное? — спросил начальник штаба, подняв глаза от бумаг, и посмотрел на начальника связи, потом перевел взгляд на Шпаго, как бы желая угадать, какое дело могло их привести к нему.
— Очень срочное! — с чувством сказал Шпаго, выступив вперед.
— А вы кто? — удивился начальник штаба.
— Я адъютант Харитонова!
Казанский мельком взглянул ка вошедших с таким видом, будто говорил: "Меня это не касается, у меня своих дел достаточно".
Начальник связи положил на стол телеграмму. Начальник штаба, пробежав глазами текст, передал листок Казанскому. Тот, быстрым движением руки сбросив и посадиз очки на переносицу, с недовольным видом прочел.
— Я б такую телеграмму не задерживал, — сказал он, — но какие правила существуют на этот счет, вам виднее!
— Смотря как рассматривать, — размышляя вслух, проговорил начальник штаба. — Если это жалоба…
— Не жалоба, а просьба помочь разобраться в очень серьезном деле! сухо сказал Казанский. — Текст телеграммы не оставляет сомнения в том, что именно этим руководствовался генералмайор Харитонов.
— Это, пожалуй, верно. Отправляйте! — согласился начальник штаба.
На другой день прибыл ответ:
"Генерал-майору Харитонову
Доложите о потерях выезжайте распоряжение Ставки".
Снова возник вопрос, как толковать эту телеграмму. Разрешить ли Харитонову отъезд в Ставку после того, как будут отправлены сведения о потерях, или дожидаться новой телеграммы, подтверждающей вызов?
Казанский снова твердо высказал свое мнение:
— Никакого указания на то, что будет вторичный вызов, в телеграмме нет. Задерживать Харитонова мы не имеем права!
Командующий фронтом согласился с Казанским.
В тот же день машина Харитонова из Шандриголова отправилась в Москву.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Надежда Федоровна Харитонова, вернувшись из эвакуации, жила в Москве, на улицR Полины Осипенко. В штабе МВО к ней отнеслись заботливо. Давнишний сослуживец Харитонова, в ту пору находившийся в Москве, помог ей с пропиской.
Однажды полковник позвонил и сказал, что заедет. Голос у него был странный. Она встревожилась и весь день терялась в догадках.
Полковник приехал. Он был невесел и неразговорчив. Сказал, ч?о уезжает на фронт. Видимо, хотел еще о чем-то заговорить и не наводил слов.
— От мужа есть письма? — неожиданно спросил он.
Надежда Федоровна испуганно на него взглянула.
— Вы что-нибудь знаете?.. Он погиб? — заговорила она, меняясь в лице. Вы с этим пришли?
— Нет, нет, не то! — замялся он.
— Да говорите же!
— Он не командует армией…
— Его сняли? За что? В чем он прозииипгя?
— На войне это может случиться с каждым из нас. Вы только ка пишите ему, что вам" это известно… Не расстраивайте. Дайте собраться с мыслями… Я не сомневаюсь, что он будет оправдан!..
Полковник, простившись, ушел.
С этой минуты сердце Надежды Федоровны переполнилось такой горечью, какую рождает в душе женщины чувство аины перед любимым человеком.
Ее охватило раскаяние.
Она казнила себя за то, что причиняла мужу горе своими бабьими просьбами. Она видела только пврадную сторону его общественного положения и недооценивала всей сложности его ратного труда. Он ей писал об этом. Она не понимала.
Если бы она могла перенестись к нему, быть возле него!
Она металась по комнате, часто подходя к окну, точно призывая его к себе, обдумывая, как добиться приема у кого-либо из самых больших людей з Ставке, чтобы защитить его.
Он в ее представлении был все тем же непоседливым и озорным мальчишкой, каким он был, когда дергал ее за косы и скрывался в толпе школьников, каким он был, когда в первый раз поцеловал ее в школьном коридоре. Его за это исключили из школы. Она тогда защитила его.
Она остановилась, не находя слов, какими бы она могла высказать обуревавшие ее мысли. Гнезду ее грозила беда. Ветер беды бушевал там, где был Федя, а сюда доносился по" а лишь отзвук этого жестокого вихря.
"В чем он мог провиниться?" В Рязани, Орле, Горьком она была в курсе его дел в той мере, в какой это разрешалось, но этого было вполне достаточно, чтобы понимать его.
Теперь он удалился от нее и стал загадочный, окруженный каким-то неясным ореолом из порохового дыма.
Она снова подошла к окну и, безотчетно всматриваясь в снующие машины, неожиданно увидела запыленную черную «эмку», похожую на Федину, и почему-то подумала, что это едет к ней он, ее муж.
Машина замедлила ход, переехала трамвайные пути под прямым углом и направилась к воротам ее дома. Она поспешно выбежала во двор. Из машины вышел ее Федя.
Казалось бы, вот тут-то и надо было им броситься друг к другу, позабыв обо всем, что их окружает, но этого не произошло.
Деловые распоряжения, вопросы, советы, куда поставить машину, куда нести чемоданы, оттеснили на время их чувства. Все четверо, включая адъютанта и шофера, поднялись по лестнице и очутились в квартире."
Мужчины, — поставив чемоданы, стряхивали дорожную пыль с одежды и сапог. Надежда Федоровна побежала к начальнику столовой, захватив с собой эмалированные судки.
После ужина Шпаго и Миша объявили, что подождут Федора Михайловича в машине, так как он им сказал, что сразу поедет в Ставку.
Надежда Федоровна, перемыв посуду на кухне, спустя несколько минут вошла в комнату и участливо посмотрела на мужа.
Федор Михайлович с кем-то разговаривал по телефону.
Она прислушалась к тону его голоса. Когда разговор прекратился, он встал и подошел к ней.
— Ну вот, теперь давай поздороваемся! Здравствуй, жена! — сказал он и трижды поцеловал ее.
— С кем ты разговаривал? Отчего не известил о своем приезде?
— С начальником Генштаба! — ртветил он. — А не известил потому, что телеграмма шла бы дольше, чем я ехал. Понимаешь, — нахмурив брови, тихо сказал он, — я с должности снят… Рассказывать тебе, за что, не стану…
— Ну конечно, Федя! — сказала она. — Если провинился, признай вину и дай слово не допускать таких ошибок. Начальство тебя простит, а если и накажет, то не строго… Ты что собираешься делать теперь?
— Поеду в штаб, буду писать объяснение… Может быть, вернусь поздно…
— Поезжай! — сказала она. — Только обдумай все, не горячись…
Она пристально посмотрела ему в глаза, умоляя его не натворить беды каким-нибудь неловким словом или поступком, потом медленно привлекла к себе его голову и прикоснулась губами к его лбу.
Начальник Генерального штаба принял Харитонова и, не тратя слов на вопросы, которые из вежливости люди задают друг другу, прямо приступил к делу.
— Пройдите в отдельную комнату, сядьте за стол и пишите все, что вы хотите и считаете нужным сказать, пока не пропал заряд.
Харитонов ушел в отведенную ему комнату и до трех часов ночи писал объяснение. Он писал правду, как он ее чувствовал, не скрывая фактов, не выпячивая одних, не затушевывая других, не выставляя виновниками своих подчиненных, как это делают некоторые начальники, беря на себя лишь вину за то, что недоглядели.
Его природный ум, гибкий и смекалистый в бою с врагом, осторожный и сдержанный с посторонними, был прям и не искал лазеек в отношении с людьми, которые, как подсказывало ему внутреннее чутье, должны знать правду, понимать и ценить ее.
Возвратясь домой, Харитонов до рассвета безостановочно говорил жене о своем душевном состоянии, о своем чувстве к ней, о своих чувствах к товарищам. Он сожалел, что не вернется к ним, потому что армия не может оставаться без командующего и там уже другой командующий, да он, возможно, и не будет больше командовать никакой армией, но если его и понизят в должности, то и тогда он не будет лишен главного-возможности сражаться с врагом, любить своих солдат, учить их, передавать им свои знания. И она ведь не перестанет любить его? Она же любила его, когда он был рядовым бойцом Чапаевской дивизии…
Она сквозь дрему слушала его возбужденный шепот и, гладя его голову, соглашалась со всем, что он говорил.
Ее ласковые слова: "Ну ясно, Федя", "Ну конечно, конечно!", "Да разве ты мог в этом сомневаться!" — успокаивали его.
Он начал было рассудительно объяснять ей, почему не мог выполнить некоторые ее просьбы, она зажала ему рот и проговорила:
— Это пустяки, Федя. Ведь я кое-что не понимаю, и ты должен объяснить мне. Раз это незаконно, может помешать тебе и повредить делу, я всегда пойму тебя. Обижусь ненадолго. Ты не обращай внимания. Делай, как ты считаешь правильнее. Я за это и цекю тебя. А если и ставлю тебе в пример других мужей, то лишь пока еще ты не объяснил мне, что можно и чего нельзя!
Июньское солнце стояло уже высоко в небе, когда Харитонов проснулся. Жены не было возле него. Слышались только ее шаги и голос на кухне. Он оглядел комнату, где все дышало ею.