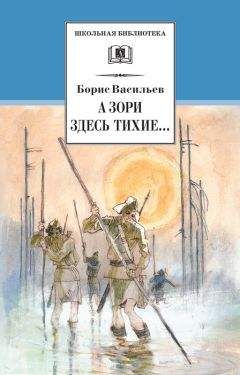Борис Зайцев - Том 1. Тихие зори
– Мальчик болен? – (Голос душки.) – А-а, ну, даст Бог, выздоровеет.
И в голосе ровная ласка – опытного, знающего человека, видевшего много, и теперь идущего мимо.
– А Костенька фантазируют? На белый дом зазевались. Лучше про жену бы рассказал – хорошая была у него жена.
– Скоро приедет, – сказал Константин Андреич.
– То-то пора.
И опять не дослушивал, совсем ли приедет, зачем, что.
Так просидели часа два. Пшерву душка оставлял ночевать. Яшин с «Костенькой» уходили. На прощанье присели, Пшерва играл на рояле, бледный, с бессветными агатовыми глазами. Дрожало, билось в нем что-то, точно рыдало.
– Мы идем, – сказал Яшин. – Прощай, Пшерва, расстроил ты меня музыкой своей, Бог с тобой.
Они вышли. Снова были тихи улицы. Хмель проходил, казалось, догорал фейерверк.
Константин Андреич усмехнулся.
– Хорошо двадцати лет «безумствовать в кабачках и клоаках». А? А нам?
Яшин стих. Шли молча. Константин Андреич все не мог забыть белого барского дома, освещенного луной. «Так же был он освещен весной, ночью, тогда. И Натали играла на рояле, я сидел, так же, у окошка… Так же любил ее.»
Дух захватило, когда понял, как любил.
– Эх, Яшин, Яшин, – сказал он, – какие мы с вами воеводы Пальмерстоны.
– Молчите, – ответил тот, – пожалуйста, помолчите, Константин Андреич: иногда я бываю мрачен.
– Слушайте, вы сына своего очень любите?
Яшин посмотрел, не ответил. Через минуту сказал:
– Очень. Мое дело плохо.
Они подходили к дому.
XXVIДевочки Марианны были в ужасе: у подъезда их флигеля буянил взлохмаченный человек. На крыльце стояла мать. За лохматым безумцем виднелись: чужой швейцар, два дворника – тоже неизвестных.
– Я послан от вашего мужа, вы не имеете права задерживать здесь его дочерей: если вы не отдадите их, мне поручено взять силой…
– Не знаю, кто вы, – говорила Марианна. – Уходите. Детей не могу никому отдать.
– А-а, так – берите их, – завопил вдруг ярила, – в мою голову!
Швейцар и дворники мялись. В это время подошел Яшин с Константином Андреичем. Яшин был сер, злобен.
Марианна кинулась к ним. Дворники пошептались и двинулись.
– Что такое? – спросил Яшин. Швейцар сказал:
– Вот, не хотят детей мужу ворочать.
– А-а!
– Безобразие-с, – кричал лохмач, – я был у господина градоначальника, это самоуправство!
Константин Андреич побледнел, сдержал себя, подошел к безумцу и придвинул к самому его носу кулак.
– Извольте убираться. Слышали?
Яшин же действовал так: медленно взял валявшуюся лопатку, железную, с острым краем, и сказал:
– В руках у меня лопата. В кармане револьвер. Если вы не уйдете мгновенно, я расквашу две-три головы, потом открою из револьвера огонь.
Безумец отпрыгнул от Константина Андреича, кинулся к Яшину.
– Это разбой, – кричал он, – я сейчас пошлю за полицией!
Яшин бросился на него, лопата свистнула. Тот успел нагнуться.
– Вон! Вон, мерзавец!
Голос Яшина так был дик, так стало ясно, что еще минута – он начнет крошить в обе стороны, что началось бегство: первым летел швейцар, за ним дворник, безумец отступал последним. Изгнав их, Яшин запер калитку.
– Жаль, – сказал он, – что я никого не убил. Весьма жалею. Трудно с этим народом.
Константин Андреич отпаивал Марианну.
– Не плачьте, – сказал Яшин. – Они напуганы. А я сейчас еду к градоначальнику.
Он действительно уехал, поручив Константину Андреичу надзор за женщинами и Женей.
XXVIIБолезнь Жени усиливалась. Внутренности обратились в язвы, непрестанно гноившиеся. Он худел и едва двигался; обритая головка чуть держалась, придавая вид маленького, бедного куренка.
– Положение сына моего плохо, – говорил Яшин. – Мало надежды.
При этом принимал вид безразличия. Но Константин Андреич знал его теперь.
Так же внезапно сух он стал к Марианне, уезжавшей на днях.
– Без женщин лучше. Слезы пойдут…
В день отъезда Марианна зашла к Константину Андреичу.
– Прощайте, – сказала, пожав руку. – Когда теперь увидимся!
– Вы куда ж, собственно? Ответила не сразу.
– Бегу, вы знаете. Грозится отнять… Пожалуй – отымет.
Она вытянула по столу светлую руку, молчала; все выражало в ней усталость.
– Отчего у вас рука сквозная? – спросил Константин Андреич.
Ему вообще казалось, что Марианна устроена облегченней, светлей других. Она усмехнулась.
– Бог знает. Впрочем, я вегетарианка, мне противно вообще тяжелое… мясо.
Константин Андреич вспомнил, – она теософическая женщина, верит в астральную душу.
– Да. Скитаться будем. Зато, если девочек не отберут, я их выращу хорошо… Понимаете? Всю себя положу. В моей жизни было мало радости – я не жалею об этом. Даже не хочу, чтобы они были слишком счастливы, – как понимают счастье обычно. Так и вести буду.
– Мне кажется, – сказал Константин Андреич, – я вас чувствую. Пожалуй, мог бы ваш девиз назвать.
– Да?
Он подумал.
– «Печаль и твердость».
– Ах, может быть, но я слаба. Если они со мной, – живу, а вдруг не будет так?
Прощаясь, он обнял ее, поцеловал в лоб.
– Сил вам желаю, огня, света.
– Вы целуете меня как девочку (она засмеялась): а мне уже за тридцать. Я старая женщина, желтая, замученная.
Морщины у глаз, тяжелые веки говорили об этом, но тонкость вуали, духи, бледно сиявшие глаза указывали на иное.
«Нет, – подумал Константин Андреич, – она не будет побеждена».
XXVIIIБыло жарко. Даже странно-жарко для осени. Пахло грозой. К вечеру она надвинулась. Блистали зарницы, чаще, чаще, трепеща бледно-зеленым.
Константин Андреич зашел к Яшину. Тот опять сидел в светелке, наверху, снова пил кофе. Теперь он был еще желтей и сдавленней.
– Должен вам сообщить, что положение моего сына Евгения безнадежно. Умрет дня через два, максимум.
Он отошел, сел на диван, опершись на спину головой, так что лицо смотрело вверх. Глаза его закрылись – Константин Андреич увидел синеву век. Держа в руке, худой и желтой, мундштук с папиросой, он сказал:
– Сегодня Евгений говорит мне: «Папа, я боюсь, как бы мне не умереть».
От слов Яшина и его синих век тянуло холодом.
– А потом Евгений обнял меня и говорит: «Пала, теперь я смерть вижу. Она вон там…» – Яшин открыл глаза и с такой уверенностью показал в угол, что Константин Андреич обернулся. Яшин опустил веки. – «Папочка, – говорит, – у меня холодают ножки. Погрей мне ножки, не давай меня смерти. Очень, – говорит, – прошу тебя: не давай!» Так. Вот он мне и сказал это. Яшин встал, подошел, улыбнулся холодно.
– Вы, наверно, расчувствовались от моего рассказа? Отправляйтесь домой. Я иду к Жене. Приходите в двенадцать, если угодно, конечно.
Константин Андреич ушел – с большой тяжестью.
Пройдя к себе, он лег, отворил окно. В бледных вспышках чернели деревья, потом снова тьма, и только в доме Яшина огонек. «Борьба. Последняя!» Он знал, что Яшин не отдаст сына даром.
В час он пошел к нему. Было темно, иногда разрывалась молния – теперь совсем близко. Внезапно, с бешенством ударил дождь; как молотами бил по крыше; стало холодней: вероятно, с градом.
Яшин сидел рядом с комнатой Жени.
– Ну? – спросил Константин Андреич.
– Папа! Яшин вошел.
– Зачем ты выходишь? Слушай, мне страшно без тебя… А кто в столовой? Дядя Костя? Пусть бы вошел.
Женя, полусидя, блестящими глазами глядел на Константина Андреича. Тень рисовала на стене кругленькую голову, плечи острые.
– Здравствуйте. Отчего вы редко заходите? Константин Андреич не мог забыть этого взгляда.
«Почему он, такой маленький, уже чувствует?» Женя знал. Это было ясно; трепет пробегал по его лицу, он видимо искал третьего. Посидели с четверть часа. Вдруг он ослаб, захотел спать.
– Немножко бы мне поспать, так, немножко… Дядя Костя, – спросил он вдруг, – а как звали объездчика на Касторасе… с которым вы еще охотились?
– Ильей, кажется. А что?
– Нет, зачем говорить неправду… совсем не Ильей.
Он чуть не расплакался.
Чай пили в столовой. Женя заснул; была та скучная тишина, сдвинутые с мест предметы, слабость, которая указывает на присутствие больного.
Внезапно ударило изо всех сил. Яшин улыбнулся.
– В такие ночи молния влетает иногда в виде шара в дом.
– Это редко случается.
Яшин помолчал. Потом неожиданно встал и направился к окнам – отворять.
– Что вы делаете?
– Уйдите отсюда, – сказал Яшин. Константин Андреич пожал плечами.
– Я вам говорю: уйдите.
«Сходит с ума», – подумал он. Удар снова грохнул, чуть не расколов флигеля.