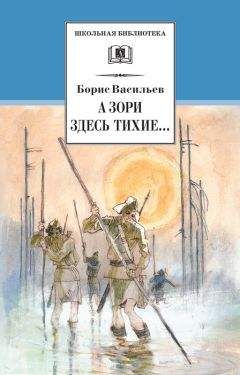Борис Зайцев - Том 1. Тихие зори
Оглядев его, постояв перед белыми овечками абсиды, посмотрев саркофаги, Константин Андреич вышел. Наступал вечер.
За шоссе, на лугах косили косцы; низины туманились; и даже горы, видные издали, были невысоки, необидны. Он отошел от коляски, сел. Подперев голову, слушал. Эта страна чужая, но как он близок ей! Удивительна, радостна такая мысль. Открыл глаза. «Да, я в чужой, но и в своей стране, – потому что все страны одного хозяина, и везде он является моему сердцу. И здесь я его чувствую».
Тогда косцы, возившиеся с сеном, сами луга, пьяненький кустод, Аполлинарий, Равенна, каменевшая вдали, засветились для него вечной, святой жизнью. «Кажется, могу теперь прилечь, послушать. Не откажет мать, не станет прятаться».
Вечером, поздно, был он у моря. Новый месяц взошел, слабым рогом. Берег был пустынен. Далеко в море зеленел огонь, пинии темнели по берегу плоскими шапками.
Надо было зачерпнуть адриатической воды и плеснуть ею к месяцу: в честь любви, друга, погибшего за нее на этих берегах, женщины, ушедшей с ним; в честь иного – далекого сердца, иной страны.
XXК осени вернулся он в Россию. Не зная, что будет и куда себя пристроить, он остановился в Москве. Здесь думал кончить дела по продаже крестьянам имения, сбыть деньги куда-нибудь и начать бедное, легкое существование человека, от всего свободного. Но поселившись на дальнем бульваре, в доме Лисицыной, он застрял, вошел в новые связи с людьми, – прожил это время не так, как собирался.
XXIДом вдовы Лисицыной был небольшой, деревянный, с двумя флигелями; в одном жил Константин Андреич, в другом дама Марианна Николаевна, – самый дом занимал Яшин, доктор. Двор под травой, старые стройки, липы, вязы; через проезд густой бульвар, а сбоку свой сад, тоже заглохлый, разгороженный забором: одна часть флигельская, другая домовая.
Начинался август; стояли хорошие дни – свежей ясности; за бульваром сиял купол; осень, тишина, бедность дворика бросали на все отсвет. Нередко Константин Андреич забирался в этот сад и лежал там – в гамаке или читал. Но читалось мало; больше он глядел в небо, вдыхал вянущий лист, наблюдал клены. На улице шумели пролетки, дети гомонили за забором; часто на дворе бегал мальчик, с ним две девочки. Случалось, они мешали ему криком; но было приятно, что вокруг есть жизнь.
Раз, когда он обычно висел в гамаке, из соседнего сада к нему залетел мяч. Через минуту дети подбежали к забору.
– Будьте добры бросить нам назад, – сказал мальчик. Константин Андреич был весел, ему хотелось шутить.
– А-а, – ответил он, – вы попали на мою территорию, кроме того, вы ранили меня мячом, – теперь ваш мяч мой, пленный ваш мяч.
– Нет, пожалуйста.
– Война, ничего нельзя поделать. Выкуп, выкуп. Мальчик побледнел.
– Конечно, вы сильнее меня. Вы можете не отдать мне мяча, но… вы не имеете права этого делать!
Он прекрасно сверкнул глазами.
Константин Андреич сконфузился. Встал с гамака, поднял мяч, подошел.
– Простите, голубчик, я смеюсь, неужели вы думаете, что я хочу его взять!
У мальчика вздрагивали губы.
– Извольте, вот он. Ну, а кто вы такой, по крайней мере?
– Моя фамилия Яшин.
Константин Андреич познакомился, позвал их к себе; он догадался, что это сын доктора, девочки же – Марианны Николаевны. Говорили о игре в лапту, Константин Андреич рассказывал, как он был в детстве охотником.
– Вы говорите, у вас было маленькое ружье, одноствольное? Попрошу папу купить!
Женя сиял.
– Да, шомпольное. Тогда центральных еще не было.
– А что такое «центральное»?
– Можно на ваших качелях покачаться?
Константин Андреич качал детей на качелях, повел к себе, показывал камушки с Урала, бывшие у него случайно, вообще работал добросовестно, стараясь загладить мяч. Дети нравились ему. Женя хотел быть большим, говорил литературно и с весом; девочки блистали глазами; в этой молодой радости было столько живого, что приходилось покоряться.
Чай пили у него; прощаясь на крыльце, под вечер, он увидел и Яшина: это был человек с высоким лбом, впалыми глазами; суховатый, прямой.
Константин Андреич с ним познакомился.
XXIIВ вечер, когда он посетил Яшина, у того сидела Марианна Николаевна. На перилах балкона висел студент, бледный, с черными глазами; что-то индусское было в нем.
– Вот, знакомьтесь, – сказал Яшин, – прекрасная Марианна, Константин Андреич, – Пшерва, подходи сюда, что ж ты? Это Пшерва Тетмайер.
– Хм… Яша, не глупи!
Пшерва смеялся, слегка конфузясь.
– Я и Тетмайера вовсе не так люблю!
– Рассказывай. Когда я с ним познакомился, он только поляками и бредил. Марианна, будьте хозяйкой, чаю наливайте и прочее.
Вечер был красный. Настурции, обвившие балкон, горели. Клумбы пылали прощальными цветами. Пшерва кашлял, – узкими шагами ходил по балкону.
Марианна имела усталый вид.
– Вот вы говорите, – сказала она Яшину, – что они ничего не могут сделать, раз дети у меня. Мвжет быть. А муж мне сказал: «Возьму силой». Кроме того, он процесс затевает.
– Легко сказать, пришел, взял силой! А если и попробует – сделай одолжение. Найдем адвоката, ну, уехать на время придется.
Марианна улыбнулась.
– Уехать! Вы знаете, я и так маятником, то Париж, то сюда.
– Ничего, ничего, держитесь, Марианна. Вы отличная женщина, смотрите, у вас луиниевские глаза, вы мадон-нообразная женщина, и вдруг вы будете поддаваться какому-то бревну.
Яшин начал раздражаться.
– Мы, славяне, мягки очень. Не нужно этого. Лезут на вас подлецы – нужно отбивать. И между прочим, должен вам заявить, я считаю, что правда, вообще говоря, есть.
Марианна затуманилась. Ее чудесные глаза, в темной оправе бровей, сияли.
– Я и не говорю. Я тоже в правду верю. Но все же понять жизнь… и всегда иметь силу принять ее… Все-таки, это очень трудно. Например, если б у вас Женю взяли…
Яшин молчал.
– Яша, Яша, – сказал Пшерва, подошел к нему и прислонился, будто оперся, – поговори теперь о твердости, хм… твоя любимая тема. У-у. – Он зевнул.
– Вот, видите, уж облокотился на меня, потому что устал. Нежный поляк, зябкий! А про твердость не замолкну – что ты ни выдумывай.
Яшин вдруг встал, и прошелся.
– Ты думаешь – легко жить, Пшерва? Нет, милый, не думай, и не надо, чтоб легко было. Кто мы такие? Люди. «Светочи» – и нам дано не тушить себя, пока нас не потушат. Драмы есть, ужасы – да; но живем мы во имя прекрасного: коли так, нечего на попятный.
– Верно. – Марианна вздохнула. – Я в главном с вами согласна… только сил надо… я, ведь, не собираюсь обжираться.
– Все «за жизнь», – сказал Константин Андреич. – Я бы с вами тоже, да все вот не знаю: может, когда очень хлопнет, так и пятки покажешь.
Пшерва беззвучно хохотал.
– Вы знаете, Яша когда разойдется, он такой строгий, даже страшно.
– Вздор мелешь, Пшерва. И Марианна на себя напускает, и Константин Андреич. Марианна живет честно, сурово живет, бедно, и сил у ней хватит, вздор-с. А минутами все слабнут, конечно. И даже очень…
Марианна ушла. С ней удалились – духи тонкие, вуаль на шляпе, свет глаз, бледность.
– И с вами бывает? – спросил Константин Андреич.
– Что?
– Да вот, вы сказали: «слабнут».
– Конечно.
Яшин задумался. Показалось, давние, смутные тени прошли по лицу его.
– Нелегкая вещь, существованье-то! И все-таки: чем горше, круче, тем больше он должен жить… человек.
Пшерва опять потянулся.
– Будет, Яша, страху нагонять. Пойдем лучше куда-нибудь, выпьем вина.
– Пить не желаю нынче. Пройтись можно.
Взяв шляпы, вышли. Довольно долго ходили по бульварам, при красном закате, фонарях золотых, куря, разговаривая.
XXIIIИногда, в светлые дни, Константин Андреич брал ялик и уезжал в парк. Тихая была река; медленно воды лились, отражая лес на той стороне, как бы в огненно-желтом зеркале. Летали белые рыболовы, виднелось жнивье, со сложенными крестцами. Эта осень, прохлада, яркая желтизна кленов и крестцы ржей волновали его. Лишь Италия вызывала то же, но там точно можно было сказать, что именно хорошо, и почему.
Здесь же все плохое, отсталое, над чем всегда смеются, – и тем оно милей. «Кто заступится за наше? А обидит всякий».
В парке он подолгу бродил, лежал. Находили минуты, когда казался себе вольным охотником, которому никуда не дано вернуться, да и незачем: выйдет в поле, к родной земле, и осенним днем сложит голову на распутий. В другие разы вспоминал Наташу. Где она? Любит ли? Кого? И вдруг когда-нибудь они встретятся? Она – дама блестящая, уже иная, чем он знал, с новым мужем, промелькнет мгновением, а он останется; и когда смертный его час наступит, кто приложит к его лбу руку?