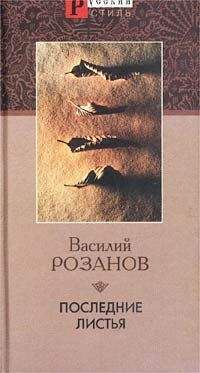Василий Авенариус - Юношеские годы Пушкина
— Да где же Мери? — хватилась ее хозяйка и отправилась отыскивать отсутствующую.
Вскоре затем возвратившись, она наклонилась к уху мужа и шепнула ему что-то. При этом взор ее на одно мгновение вперился в лицо Пушкина. Но взор этот был так пытлив и проницателен, что Пушкин зашевелился на стуле и опустил глаза. Между тем Энгельгардт встал и ушел в свой кабинет.
— Что с мадам Смит? — спросил кто-то за столом.
— Ничего… мигрень… — отрывисто отозвалась г-жа Энгельгардт.
Немного погодя, Егор Антонович вышел опять из кабинета.
Он не взглянул ни на кого, не промолвил ни слова; но пасмурное, почти суровое выражение его лица, всегда столь открытого и приветливого, не предвещало ничего доброго.
Когда пробила половина десятого и лицеисты стали расходиться, Энгельгардт задержал Пушкина:
— Останьтесь на минутку.
Потом, выждав, когда все прочие удалились, он позвал его за собой в кабинет.
— Что это значит, Пушкин? — с сдержанным негодованием заговорил он тут. — Сколько я знаю, вы — хорошего семейства: в лицей воспитанников принимают с строгим разбором; у вас самих есть, кажется, и старшая сестра?
— Есть… — отвечал Пушкин, не смея поднять на директора глаз.
— Как же вы, скажите, позволили себе такую выходку с Мери?
— Что же я такое сделал, Егор Антоныч? Я написал ей только стихи…
— Стихи — да; но какие!
Они стояли около письменного стола, освещенного лампой. Егор Антонович поднял на столе пресс-папье, под которым лежала пачка бумаг. Сверху оказался розовый почтовый листок, очень хорошо знакомый Пушкину. Энгельгардт взял его в руки.
— Вы не знаете еще никакого различия между людьми! — продолжал он, и в голосе его невольно прорывалось его душевное раздражение. — Не говоря уже о совершенной неуместности вообще обращаться со стихами к молодой даме, когда она со своей стороны не подала к тому ни малейшего повода, — у вас есть тут, например, такие стихи:
О, бесценная подруга!
Вечно ль слезы проливать?
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать?
Что это такое, Бога ради, объясните мне? Молодую вдову, которая едва схоронила только и оплакивает своего любимого мужа, без спросу утешает первый попавшийся школьник и для рифмы еще осмеливается называть ее "бесценной подругой"! Скажите: что вы — в уме своем были или нет?
Пушкин молчал, сгорая от стыда и досады. Энгельгардт пристально смотрел на него, как бы стараясь проникнуть в глубину его души.
— Вы не думайте, что я слишком короткое время знаю вас, — заговорил он опять. — Хоть я, правда, здесь в лицее всего несколько недель, но я старался внимательно изучить всех вас и составил лично для себя даже письменно характеристику каждого из вас. Я буду с вами, Пушкин, вполне откровенен: я прочту вам то, чего никому не читал, никому не прочту.
Вынув из стола толстую тетрадь, Энгельгардт стал перелистывать ее.[39]
— Я пишу для себя по-немецки, — объяснил он. — Вы хотя и слабы в этом языке, но, надеюсь, сколько нужно — поймете. Если же чего не поймете, то спросите — я вам переведу. Слушайте, что у меня сказано про вас:
"Его высшая и конечная цель — блестеть, и именно поэзиею; но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум".
— Верно это или нет? — спросил Егор Антонович, переставая читать.
— Может быть, и верно… — с глухим ожесточением отвечал Пушкин. — Но если природа отказала мне в настоящем уме, так разве в том моя вина?
— Это было у меня написано до сегодняшнего дня, — сказал Энгельгардт. — Но вот час тому назад, когда госпожа Смит передала ваши стихи, я приписал следующее:
"Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не было юношеское сердце. Нежные и юношеские чувствования унижены в нем воображением…"[40]
— Нет, Егор Антоныч! Это уже неправда! — горячо перебил тут Пушкин. — О религии лучше не будем говорить, потому что вы — лютеранин, я — православный; но сердце во мне есть, теплое русское сердце… когда-нибудь вы это узнаете…
В голосе поэта-лицеиста сквозь слезы звучала нота глубоко уязвленного самолюбия.
— Дай-то Бог! — вздохнул Энгельгардт. — Но если так, то чем же прикажете объяснить ваш поступок? Беспредельным легкомыслием, что ли? Скажите: вы любите вашу сестру?
— Как вы еще спрашиваете!
— Очень любите?
— Очень.
— Так вот, представьте же себе, что она вышла бы замуж, что она вскоре бы овдовела, и тут какой-нибудь молодчик без всякого повода с ее стороны написал бы ей такое же точно милое утешение. Сочли ли бы вы это за дерзость?
— Еще бы!..
— Как же вы поступили бы с ним?
Ответа не было.
— Что сделали бы вы с ним? — повторил Егор Антонович.
— Я убил бы его на месте!.. — глухо прошептал Пушкин.
— Надеюсь, что до этого не дошло бы, — сказал Энгельгардт. — Но совесть и, кажется, сердце у вас все же есть. Очень рад и буду еще более доволен, если все окажется с вашей стороны только юношеским увлечением. Во всяком случае, вы поймете, Пушкин, что мадам Смит не может не чувствовать оскорбления, что ей тяжело быть в одном обществе со своим оскорбителем, пока хоть несколько не уляжется ее неприязнь против него.
— Хорошо! Я не буду вовсе ходить к вам… — отрывисто проговорил Пушкин.
— Неделю-другую пропустите, а там опять милости просим. Тем временем вы успеете на досуге вдуматься в ваш поступок. Вообще, всякому из нас нелишне время от времени перебирать свое прошлое, чтобы избегать ошибок. И вам советую делать то же. Доброй ночи!
В последних словах звучало уже снова то отеческое благоволение, которое выказывал директор ко всем лицеистам.
Давно обитатели лицея от мала до велика покоились мирным сном. Один только Пушкин ворочался под своим одеялом и ни в каком положении не находил себе покоя. О! Как охотно открыл бы он теперь наболевшую душу перед первым своим другом, Пущиным… Стоило ведь только стукнуть в разделявшую их стенку. Но рука у него не подымалась: признаться другу в таком поступке — о, нет, нет!.. Тот от него, пожалуй, тоже отшатнется…
"Вдумайтесь на досуге в ваш поступок; переберите ваше прошлое", — вспомнились ему тут слова директора. И с каким-то горьким самоуслаждением кающегося дервиша, истязающего самого себя, он стал в памяти перебирать свое прошлое, свое непослушание и своеволие как в родительском доме, так и в лицее, разные мелкие столкновения с товарищами, с начальством… Ночью, когда воображение наше работает сильнее, все предметы, как известно, являются нам в значительно преувеличенном виде. Нагромождая против себя обвинение на обвинение, Пушкин представлялся сам себе наконец каким-то беспримерным, чудовищным грешником. Слезы душили его, но он пересиливал себя, и только глубокие вздохи невольно вырывались из его груди.
— Что же ты, Пушкин, не ходишь уже к Егору Антонычу? — спросил его как-то несколько дней спустя Пущин.
— Как не хожу? Вчера еще был… — отговорился он.
— Вчера? Нет, вчера как раз я был там, и тебя наверное не было.
— Ну, так третьего дня.
— И третьего дня тебя там не могло быть: мы вместе же с тобой сидели еще здесь за ужином, помнишь?
— Ах, отстань, пожалуйста!
Покачав головой, Пущин отстал.
Но вот две и три недели прошли уже со времени разговора с директором, а Пушкин по-прежнему чуждался его. Сам Егор Антонович наконец зашел к нему в камеру, где застал его за конторкой с пером в руках. Обернувшись и увидев директора, Пушкин как будто оторопел и спрятал свое писание в конторку.
— Пиши, пиши: я не хочу мешать тебе, — с прежней уже ласковостью заговорил Энгельгардт. — Я хотел только спросить тебя, Пушкин: за что ты еще дуешься на меня?
— Я не дуюсь, Егор Антоныч… — не поборов еще смущения, отвечал Пушкин.
— Но ты не бываешь у меня?
— Вы очень хорошо знаете, Егор Антоныч, почему…
— О! Если ты про то, то все уже давно забыто и прощено. О тебе уже спрашивали…
— Благодарю вас; но… извините меня…
— Так ты меня, видно, вовсе не любишь? Но за что, скажи?
— Вы сами же, Егор Антоныч, меня тоже терпеть не можете! — с внезапною горечью вырвалось у Пушкина. — Вы считаете меня совсем бессердечным…
— Я, может быть, несколько переменил уже мое мнение о тебе; от тебя же зависит совершенно переубедить меня.
Обняв рукой юношу, Энгельгардт продолжал:
— То, что я слышал с тех пор про тебя от твоих наставников, от твоих товарищей, заставило меня глубже вдуматься в тебя. Из тебя выйдет, вероятно, не совсем заурядный человек. У тебя нет необходимой выдержки, усидчивости — правда; но зато природа одарила тебя богаче многих других. Ты нахватал урывками массу сведений, которых не найти ни в каких учебных книгах. Между тем обмен мыслями с другими людьми еще более упражняет и обогащает ум. Поэтому тебе просто грех избегать общества, которого ты мог бы быть украшением.