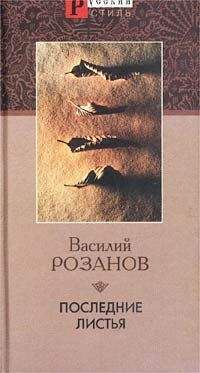Василий Авенариус - Юношеские годы Пушкина
— Что ты так бледен, Энгельгардт? — спросил меня государь. — Ты нездоров?
— От испуга, ваше величество, — отвечал я. — Я услышал лай собаки и увидел вашу коляску…
— Чего же тебе было пугаться? Ведь она тебя, я думаю, слушается?
— Слушается, государь; но ведь я — ее хозяин…
— А я — твой хозяин, — сказал с улыбкой государь. — Ты видишь, собака это хорошо понимает: она мне руку лижет.
Большинство лицеистов в скором времени оценило нового директора и с каждым днем все более привязывалось к нему. Даже своевольный граф Броглио, попытавшийся было сначала выйти из-под его власти, сам собой смирился. Дело было так.
Все лицейское начальство до сих пор говорило лицеистам «вы». Исключение делал иногда только (как уже упомянуто нами) надзиратель Фролов, когда был в духе.
— Что с него взыскивать, — говорили меж собой лицеисты, — он — старый служака, военная косточка!
И вдруг теперь Энгельгардт, человек уже не военный, придававший особенное значение приличному, деликатному обращению, с первого же дня стал говорить без разбору всем воспитанникам "ты".
— Какое право он имеет так фамильярничать с нами? — зароптал громче всех надменный Броглио. — Мы, кажется, уже не такие малюточки! Я его когда-нибудь хорошенько проучу!
— Ну, не решишься, — усомнились товарищи.
— Я-то не решусь? А вот погодите: обрею лучше бритвы!
Он воспользовался для того первым случаем, когда директор проходил через рекреационный зал. Ласково заговаривая по пути то с одним, то с другим, Энгельгардт подошел только что к дверям в столовую, когда Броглио, протиснувшись мимо него, задел его локтем и, пробормотав вскользь: "Виноват!", посвистывая, прошел далее.
— Послушай-ка, Броглио! — раздался позади него голос директора.
Броглио на ходу озирался по сторонам с таким видом, будто недоумевает, к кому могут относиться эти слова.
— Граф Броглио! — вторично окликнул его Энгельгардт. Тот с самою утонченною вежливостью подошел к начальнику и шаркнул ногой.
— Вы меня звали, Егор Антоныч?
— Звал. У тебя, мой друг, дурная привычка — свистать.
Броглио опять обернулся через плечо, как бы желая удостовериться, нет ли кого у него за спиной.
— Вы с кем это говорите, Егор Антоныч?
— С вами, ваше сиятельство!
— Ах, со мной! А то я подумал, что тут стоит какой-нибудь сторож, потому что нас, лицеистов, слава Богу, никто из начальства еще до сих пор не "тыкал".
Ходившие по залу и громко разговаривавшие между собой товарищи молодого графа теперь остановились, примолкли и с затаенным любопытством следили за возникшим между ним и директором препирательством.
— Виноват, ваше сиятельство! — произнес с явной иронией Энгельгардт, нимало при этом не возвышая голоса. — Говорил я вам «ты» не потому, что считал вас сторожем (хотя манера ваша толкаться и свистать — скорее прилична сторожу, чем лицеисту), но потому, что в воспитанниках вижу как бы моих родных детей и обращаюсь с ними, как с собственными детьми. Но вы, граф, можете быть отныне совершенно покойны: насильно я не буду вам отцом, и вы для меня будете только казенным воспитанником.
С легким поклоном директор вышел. Броглио, меняясь в лице, кусая губы, глядел ему вслед; потом вдруг расхохотался. Но хохот его как-то не удался и на полутоне оборвался.
— Что, брат, поперхнулся? — донеслось к нему из ближайшей кучки товарищей.
— Бородобрей! Обрил лучше бритвы! — послышалось из другой группы.
— Дурачье! — буркнул Броглио и, круто повернувшись, вышел также вон.
Прошел день, прошло два, а прежние приятельские отношения Броглио к другим лицеистам еще не возобновились. Энгельгардт, ничуть не изменив своего обхождения с остальными, подходил, как бывало, то к одному, то к другому, продолжал называть их «ты», и никто этим не думал обижаться. Самолюбивого же графа он решительно не замечал, глядел на него как в пустое пространство. Такое невнимание к нему любимого директора не осталось без влияния и на прочих воспитанников: точно по уговору, они, видимо, избегали уже опального товарища. Сам Броглио, чувствуя это, гордо сторонился от них и, против обыкновения, забивался куда-нибудь в отдаленный угол с книжкой.
На третьи же сутки Энгельгардт совершенно неожиданно подошел к отверженному.
— Чего ты сидишь все один? — сказал он с обычной своей добротой. — Ступай сейчас играть с друзьями.
Наболевшее сердце молодого графа не выдержало: он отвернулся, чтобы не показать, что у него на глазах слезы.
— Комовский! Тырков! — позвал Энгельгардт проходивших мимо двух лицеистов. — Не видите: на друга вашего хандра напала! Возьмите его с собой.
— Что ж, в самом деле, Броглио? Пойдем с нами, — сказал Комовский.
— Ступай с ними, друг мой, — повторил директор, — они давно соскучились по тебе.
Клеймо, наложенное на опального, было снято, и товарищи тем охотнее приняли его вновь в свою среду, что за последние два дня лишились в нем главного руководителя игр.
С этих пор у лицеистов считалось уже большим наказанием, когда Егор Антонович не удостаивал говорить им «ты». Стоило ему мимоходом спросить кого-нибудь: "Хорошо ли вы, N. N., провели время там-то?" — и все уже знали, что N. N. провинился, и невольно чуждались его, пока не слышали опять обращенное к нему директором отеческое "ты".
Глава XVI
Пушкин и Энгельгардт
Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! Взываю к ней.
"Евгений Онегин"Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
"Воспоминание" (1828)Если Энгельгардт сумел уже внушить уважение и любовь всем вообще лицеистам, то тем более должны были питать к нему чувство благодарности лицейские литераторы, о которых он специально позаботился увеличением библиотеки и устройством чтений. Восторженный Кюхельбекер, а за ним невозмутимый Дельвиг, действительно, сделались самыми усердными участниками литературных вечеров на квартире директора. Один только Пушкин не мог побороть своего врожденного отвращения к немецкому языку, на котором не только зачастую происходили чтения (потому что читались в оригинале и немецкие классики), но велись также разговоры в семье директора. Недавнее посещение «арзамасцев» тянуло его совершенно в другую сторону — к родной литературе. Душевное настроение его в это время лучше всего рисует следующее письмо его к князю Вяземскому от 27 марта 1816 года:
"Признаюсь, что одна только надежда получить из Москвы русские стихи Шапеля и Буало могла победить благословенную мою лень. Так и быть, уж не пеняйте, если письмо мое заставит зевать ваше пиитическое сиятельство: сами виноваты! Зачем дразнить было несчастного царскосельского пустынника, которого уж и без того дергает бешеный демон бумагомарания?..
Что сказать вам о нашем уединении? Никогда Лицей (или Ликей, только, ради Бога, не Лицея) не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединение в самом деле вещь очень глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы живали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину.
Блажен, кто в шуме городском
Мечтает об уединенье,
Кто видит только в отдаленье
Пустыню, садик, сельский дом,
Холмы с безмолвными лесами,
Долину с резвым ручейком
И даже… стадо с пастухом!
Блажен, кто с добрыми друзьями
Сидит до ночи за столом
И над словенскими глупцами
Смеется русскими стихами.
Правда, время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. Это ужасно! Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все 12 песен пресловутой «Россиады», даже с присовокуплением к тому и премудрой критики Мерзлякова, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения. Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную «Академию» и "Беседу губителей Российского слова…"
Но вот, очень скоро после этого письма, Пушкин зачастил в дом Энгельгардта, сделался там почти ежедневным гостем. И вдруг, точно так же внезапно, он прекратил опять свои посещения. Что было причиной того и другого?
У Энгельгардта собралось к чаю, по обыкновению, несколько человек лицеистов; был тут и Пушкин. Весь вечер он был в каком-то ненормальном настроении духа. Сперва он был до ребячества весел, до колкости остроумен; потом вдруг стал до беспамятства рассеян, до угрюмости молчалив. Такая перемена совпала в нем как раз с исчезновением из-за чайного стола молодой родственницы хозяина, Марии Смит.