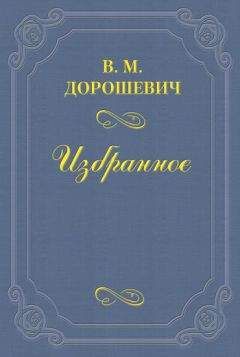Влас Дорошевич - Семья и школа
— О, да!
Такова «злая яма».
Мне остаётся ещё упомянуть о «сутенёрах» этих 10-ти, 12-ти, 14-летних «падших созданий».
О 15-летнем Анисиме Молчанове, бывшем половым в трактире.
О Лейбе Дрогинском, 12-летнем мальчике, который просит милостыню и живёт на средства десятилетней Иты.
О Василии Волкове, который нанимается за 50 к. «привлекать прохожих». Отец у него умер, мать занимается чёрной подённой работой.
Наконец, о Бориске Ясиновском, 16-летнем мальчике, состоящем «при Энте», сыне домашнего учителя, официально занимающемся «продажей ножей и прочего».
Вот 12—15—16-летние кавалеры, живущие на средства 10—12—14-летних «женщин».
Их разговоры, их знанья.
Я уверен, что Маргарита Готье умерла, не зная половины того, что знает 10-летняя Ита!
Старая, отёкшая от пьянства развратница, настоящая мегера, отплёвывалась, когда дети рассказывали подробности и «тайны» своей профессии.
И на вопрос:
— Кто же эти преступники, пользующиеся услугами этих детей?
Я не обинуясь отвечу:
— Это люди из интеллигенции.
«Простому народу» не может в голову прийти то, что знают эти дети.
Среди лиц, посягающих на детей, одно из первых мест занимают старики.
Когда этим детям не на что ночевать, они идут к «дедушке», который даёт им ночлег и гостинцев в награду за ту оргию, которую он устраивает.
Таких «дедушек» у них есть несколько.
У них есть постоянные клиенты, лица, судя по всему, принадлежащие к «порядочным» людям.
И некоторые пользуются среди этих несчастных громкой известностью.
— Она знает «Мишку»! Она знает «Мишку»! — насмешливо кричала Энта, когда одна из этих несчастных похвасталась знакомством с «Мишкой».
И она произносила это тоном шансонетной певицы, говорящей о каком-нибудь богаче, завсегдатае кафешантанных кулис.
Ирину Гуртовенко я мог увидеть только наутро.
Полузамёрзший ребёнок в каком-то рванье.
Испитое лицо, тёмные круги под глазами рассказывают её повесть лучше, чем она сама.
Как она попала на этот ужасный путь?
Это было 2 года тому назад, когда ей было 9 лет.
С тех пор… с тех пор она:
— Только просит милостыньку, дурного ничего не делает, мамка её не бьёт, мамка ничего не пьёт и т. д.
Бедному ребёнку, очевидно, досталось за то откровенное признание, в результате которого «мамку» приговорили «на 3 недели», и теперь она «умеет молчать».
— В приют после суда отправляли?
— Нет, не отправляли. До суда в приюте была, но мамка оттуда взяла.
А тут же рядом стоящая «мать» делает слезливое лицо, охает, крестится:
— Ежели б её определить куда, ни за что бы не взяла.
Вот вам вся судьба Ирины Гуртовенко.
Она сама, её мать, обстановка, в которой она живёт, атмосфера, которой она дышит, среда, которая её окружает, вот вам её прошлое, по которому нетрудно догадаться о будущем.
Что же делать?
Десятью рублями, которые мне прислали добрые люди из Дубоссар, можно только дать возможность Гуртовенко-матери несколько лишних раз напиться.
Тысячью рублей тоже не поможешь.
Если вы отдадите девочку в приют, — мать придёт и возьмёт её, потому что это её «право».
Что же будет с этим ребёнком, с другой трёхлетней девочкой, когда она достигнет того детского возраста, в котором, по мнению Гуртовенко-матери, можно и должно заниматься развратом?
Прежде всего следует лишить эту мегеру её прав на детей.
Мировой съезд, куда переходит это дело, должен признать его неподсудным себе.
Преступление Гуртовенко-матери предусмотрено 993, 998 и 1588 ст. уложения о наказаниях.
Только в силу этих статей можно лишить эту мегеру «прав» на её детей.
Потому что только в силу 993 ст. она будет лишена «навсегда права иметь за малолетними и несовершеннолетними надзор».
А тогда общество должно позаботиться об участи Гуртовенко-дочерей.
Должно, обязано, ибо выродки из нашего же общества губят этих детей.
Разве совесть не шепчет вам чего-то, когда вы читаете это описание?
Разве эти «падшие дети» не заставляют сжиматься ваше сердце?
Если нет, значит я только не сумел описать того, что видел.
IIНаша старая знакомая.
Прасковья Гуртовенко.
Окружный суд приговорил её к 4 месяцам тюремного заключения, — и в этом приговоре отчасти виноват я.
Год тому назад эту самую Прасковью Гуртовенко мировой судья приговорил за торговлю родной дочерью на 1 месяц.
Я протестовал против этого приговора, против «мирового суда» над торговкой своей дочерью и указывал, что её должны судить окружным судом.
Это бывает — увы! — редко, — на статью обратили, очевидно, внимание где следует, и дело Прасковьи Гуртовенко перенесли в окружный суд.
Конечно, не усиления наказания для этой нищей добивался я. Через 4 месяца она выйдет из тюрьмы ещё худшей, чем туда войдёт.
Но это был единственный способ лишить эту мать прав на её несчастную дочь.
Девочка погибала, потому что в какой бы приют её ни помещали, являлась её мать, на законном основании брала её оттуда и посылала заниматься развратом.
Теперь приговором окружного суда Прасковья Гуртовенко осуждена на 4 месяца и лишена права «воспитывать» детей, т. е. в данном случае её ужасных прав, — что гораздо важнее.
Этот случай с Гуртовенко заставил меня заняться вопросом о «детской проституции»; я обошёл притоны, где ютится этот ужас, и в результате получилась самая страшная и отвратительная картина, которая когда-либо появлялась из-под моего пера.
Эта статья обратила на себя внимание не одной Одессы, и ко мне отовсюду посыпались письма, требовавшие имён главных преступников — покупателей детей.
«Ну, хорошо! — писали мне. — Этих несчастных детей рассуют по приютам. Их голодных родителей накажут. А эти главные преступники, соблазнявшие голодных на такое страшное преступление, покупавшие у родителей и растлевавшие детей, — неужели они останутся безнаказанными?»
В этих письмах слышался вопль общественной совести, раненой такой страшной, такой возмутительной несправедливостью.
То же и теперь.
Третьего дня судили Прасковью Гуртовенко, а вчера я получил письмо от одной читательницы:
«Я помню эту Прасковью Гуртовенко по вашим описаниям, — пишет она, — помню, как вы, думая встретить „мегеру“, встретили голодную нищую. Нищая наказана, но те, кто соблазнял голодную своими проклятыми деньгами преступать законы Божеские и человеческие, продавать свою дочь, — эти преступники неужели останутся не раскрытыми, безнаказанными?»
Увы! — я должен ответить на это:
— Да.
Это ужасно, это невероятно, но это так.
Закон, если можно так выразиться, стоит на чрезвычайно законной почве в этом вопросе об оскорблении женской чести.
Он не хочет быть plus royaliste, que le roi meme[18].
Он не хочет вступаться за честь потерпевшей там, где сама потерпевшая, или, если она малолетняя, её родители, опекуны или родственники не видят бесчестия.
Закон говорит:
— Будь сам на страже своей чести, как ты это понимаешь. Мы не хотим позорить тебя ещё больше оглашением твоего бесчестия. Если твоя честь поругана, приди и заяви. Тогда мы будем преследовать обидчика, и преследовать беспощадно: если бы ты уж после этого заявления и сказала нам, что помирилась с обидчиком, мы всё-таки не откажемся от его преследования!
Но по отношению к этим детям и к этим родителям такая точка зрения веет холодом и бессердечием.
Понятия о чести различны. Для девочки ночлежного дома «бесчестие» состоит в том, что у неё нет пряника, когда у всех других подруг есть. И величайшая «честь» в том, что у неё есть пряник, когда у других нет.
Если эта девочка ходит в новом платке, никто из её родственников в ночлежном доме не усмотрит ни в чём бесчестия:
— Какое ж бесчестие, ежели она вон как ходит, не хуже, — ещё лучше других! Никакого бесчестия! Совсем даже напротив!
Каких понятий о чести требовать от родителей, продающих своих детей?
Не кажется ли это обидной насмешкой?
Голод — плохой друг чести. Голод туманит ум; когда человек умирает от голода, он думает только об еде, и ему нечем думать о чести.
Когда ему в эту минуту дают кусок хлеба, он мирится со всяким бесчестием.
И в руки этих-то людей вы отдаёте инициативу преследования подлых развратителей детей?
Вы хотите, чтоб голодные думали не о куске хлеба, а об интересах общественной нравственности!
Случаются изумительно курьёзные вещи в таких делах.
Родители судятся за продажу детей.
Дети на суде называют имя их развратителя, рассказывают, как над ними совершили преступление.
Правосудие уже предчувствует победу:
— Он в наших руках!
Родителей осуждают, но и главный виновник не уйдёт!