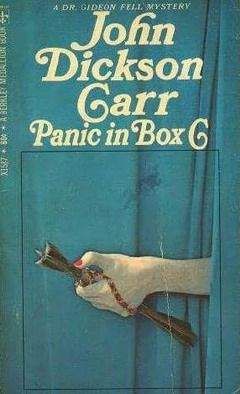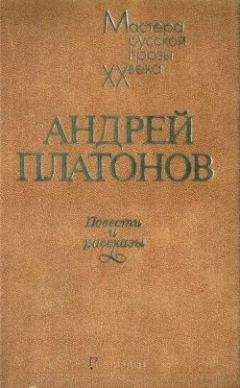Андрей Платонов - Рассказы.Том 7
Против воронежской тюрьмы на пустыре, в бурьяне сохранились остатки жилища и лежит мертвое дерево. Возле дерева сидела утомленная женщина с тем обычным для нашего времени человеческим лицом, на котором отчаяние от своей долговременности уже выглядело как кротость. Она выкладывала из мешка домашние вещи — все уцелевшее ее добро, без чего нельзя жить. Ее сын, мальчик лет восьми-девяти, ползал меж лопухов и крапивы в золе сгоревшего дома, в котором он жил недавно. Мальчик был одет в одну рубашку и босой, живот его вздулся от травяной, бесхлебной пищи; он тщательно и усердно рассматривал какие-то предметы в золе, а потом клал их обратно или показывал и дарил матери. Его хозяйственная озабоченность, серьезность и терпеливая печаль, не уменьшая прелести его детского лица, выражали собою ту простую и откровенную тайну жизни, которую мы сами от себя скрывали, а теперь, видя отражение ее на лице ребенка, нам делалось совестно и страшно. Эти совесть и страх имеют основание существовать, потому что в них есть сознание вины за судьбу обездоленного ребенка, которого мы не могли сберечь вовремя от руки врага.
— Мама, а это нам нужно, такое? — спросил мальчик. Мать поглядела; ребенок показал ей гирю от часов- ходиков.
— Такое не нужно — куда оно годится! — сказала мать. — Другое ищи…
Ребенок усиленно разрывал горелую землю, желая поскорее найти знакомые, родные вещи и обрадовать ими мать. Он нашел спекшуюся пуговицу, протянул ее матери и спросил:
— Мама, а какие фашисты?
Он посмотрел округ себя — на пустырь, на хромого солдата, идущего с котомкой с войны, на скучное поле вдали, безлюдное, без коров.
— Немцы, — сказала мать, — они пустодушные, сынок… Ступай щепок собери, я тебе картошку испеку, потом кипяток будем пить…
— А ты зачем отцовы валенки на картошку сменяла? — спросил сын у матери. — Ты хлеб теперь задаром на эвакопункте получаешь, нам картошек не надо, мы обойдемся… Отец и так умер, ему плохо теперь, а ты рубашку его променяла и валенки…
Мать промолчала, стерпев укоризну сына.
— А отчего немцы пустодушные? — спросил он снова. — Они не евши?..
— Они-то не евши? — они кормятся ничего, — объяснила мать. — Чего им не евши жить!.. Они за свои грехи чужую кровь проливают, оттого и пустодушные.
— А мы какие? — узнавал ребенок.
— А мы — нет. Мы сами свою кровь проливаем и сами свое горе терпим. Мы, когда грешны, свой грех на другого не валим.
— Мама, а где фашист, какой отца убил? — его убила Красная Армия?
— Может, и жив еще…
— Он мало будет жив, — задумался мальчик. — Его потом все равно убьют… А мертвых доктор не лечит?
— Нет, сынок. Доктора их лечить не умеют.
Мальчик умолк в своей думе, но потом он нашел себе утешение:
— А пусть отец опять рожается и живет маленьким сначала, тогда он не будет мертвым. Мама, ты роди его, ты ведь меня родила… Нужно, чтоб люди были, а то их нету…
Я издали слушал эту беседу. Мать и ее сын были моими дальними родственниками, поэтому я остановился вблизи от них; я хотел разглядеть их и убедиться, что я не обознался.
Позже мы ходили с мальчиком собирать щепки и горелое дерево для огня и затем варили картофельную похлебку на малом костре посреди нагого пустыря.
Ближе к вечеру мы втроем сделали одно дело — мы покрыли кровлей из ветвей одну земляную щель, чтобы там было укромное жилище для ночлега в ненастье.
Утром другого дня мы все пошли на кладбище. Моя родственница сказала, что там она четыре дня назад похоронила своего мужа. Сил у нее было мало, поэтому она неглубоко разрыла сверху чью-то могилу и положила туда тело мужа, укрыв его землей на покой.
Женщина и ее сын пришли к могиле проведать своего мертвого. Они опустились на колени у места погребения и стали молча смотреть в землю. У женщины вышли из глаз тихие редкие слезы, и трудная печаль овладела ею, словно горе ее могло быть искуплением жизни перед лицом умершего. И я понял тогда, что втайне каждый живой чувствует греховный стыд перед умершими — за то, что те лишены жизни, а живущий имеет ее.
Однако постепенно вдова успокоилась, потому что стала уже привыкать к своему страданию, и привычка служила ей облегчением; горе, говорят, бывает каменным, оно неподвижно, и живущее существо способно исподволь, обманно обходить его.
Усопший лежал неглубоко под нами, и из земли явственно шел запах его тела, смешавшегося с почвой. Женщина глубоко дышала этим воздухом, в котором были частицы тела любимого ею человека, довольная уже тем, что хоть таким образом она общается с ним и чувствует его близость. У нее не могло быть отвращения к покойному; она даже боялась того, что скоро уже не ощутит его тления, когда он вовсе смешается с прахом. Кто не поймет ее чувства или кем овладеет брезгливость, тот не знает простых свойств человеческой натуры, и брезгливая осторожность отделяет того от мира и его понимания.
— Давай, мама, откопаем папу! — сказал сын матери. — Пусть он дома лежит. У нас дом тоже теперь в земле…
Мать увела сына от отца. Мертвый остался опять один в земле.
Женщина считала себя виноватой, что не сумела забрать с собою мужа, когда немцы захватывали Воронеж. Муж ее был хромой на ногу, он ходил на костылях и не мог самостоятельно уйти, а мать управилась унести только ребенка и мешок с домашним добром. Она искала тележку, чтобы спасти мужа, она давала за два колеса золотые часы, но стоимость колес тогда равнялась жизни, и тележки она не нашла.
Вернувшись потом в мертвый город, женщина нашла обгорелый труп своего мужа среди других умерщвленных людей. Враги, согласно своему расчетливому муравьиному разуму, умертвили всех оставшихся стариков, старух и калек, дабы они не могли есть пищу, раз малосильны для работы. Убитых враги складывали в сараи, чтобы потом закопать их; но сараи погорели, и обгорелые мертвецы остались лежать снаружи. Своего мужа моя родственница отыскала на пустыре в слободе Чижевке; он лежал возле истлевшей старухи, ссохшейся и оземлевшей вовсе…
— Дядя, а кто фашисты? — внимательно спросил у меня сын убитого.
Я понял, о чем спросил меня ребенок. Он хотел знать тайну того человека, который лишил жизни его отца. Я ответил, что завтра поеду на войну, там увижу фашиста и там узнаю, кто он такой.
— А ты приведи его к нам!
— Зачем он тебе? — спросил я у сироты. — Ты убить его хочешь?
Мальчик со странной грустью поглядел на меня.
— Нет… Пусть он сперва отца нам отдаст. А потом он пусть сам умрет в землю…
У ребенка было правильное желание.
— Фашист только убивать умеет, — объяснил я ему, — а мертвых он не умеет живым отдавать.
— А кто умеет? — спросил сирота. — А зачем он тогда умеет убивать?
Неосуществленная истина была в словах ребенка. Он размышлял, что убивать людей
может лишь тот, кто умеет их рожать или возвращать обратно к жизни. В нем жила еще первоначальная непорочность человечества, унаследованная из родника его предков.
— После войны я приду к вам жить навсегда, — необдуманно, однако истинно, пообещал я матери и мальчику-сироте. — Мы будем тогда вместе и построим дом сначала, как было у вас.
Мать и сын промолчали мне в ответ. Они знали уже, как не сбываются обещания и как часто на путях надежды человека ожидают страдания…
Недели через две, будучи на фронте, я по роду своей службы опрашивал немцев, пленных и перебежчиков. Один пленный, Курт Фосс, оказался очень интересным существом; если он лгал, то ложь его все же была ближе к правде, чем та истина, которую он скрывал для спасения себя.
Передо мной был лейтенант пехотной службы, человек лет тридцати, несколько истощенный на вид, но спокойный до равнодушия, точно он был вполне удовлетворен своей судьбой или верил в неугасимость своей счастливой звезды. Это мне не понравилось в пленнике. Однако я привык терпеливо изучать всяких людей и умел подавлять свое личное чувство к ним.
На том участке, где был захвачен Курт Фосс, недавно произошло событие, в которого было явлено высшее для человеческого сердца терпение русского солдата. Два наших разведчика были обнаружены немцами возле своего переднего края. Одного из них вскоре засыпало землей, и он замер под ней. Другой же начал отбиваться от неприятеля огнем автомата, но не отбился: его поранило, он обессилел, и двое здоровых немцев напали на него врукопашную. Тогда наш разведчик, слабея от раны, но чувствуя свою жизнь еще целой, притворился умершим. Немцы быстро опробовали его тело и поверили, что человек мертв. Но все же для убедительности немцы дважды подкололи нашего бойца кинжалами в его грудную клетку. Наш солдат без вздоха стерпел свое мучение и остался на видимость без признака жизни. Враги тогда достоверно поняли, что человек убит и бездушен. Бормоча друг другу свои слова, они стали действовать дальше. Один из них отрезал лезвием своего кинжала, навостренным до жгучести, ухо нашему бойцу по самую мочку. Потом, подумав и отдохнув, он отрезал русскому солдату и второе ухо, а другой немец пронзил кинжалом нос нашего бойца. Русский лежал пред врагом навзничь, сократив в себе дыхание почти до смерти, холодея в своей теплой крови и храня остаток жизни в последнем тайнике своего сердца, лишь бы не подарить ее такому неприятелю, который, убив живого человека, казнит затем мертвого. Враг показался нашему казнимому бойцу столь постыдным и неприятным, что русскому солдату захотелось потерпеть и пожить еще хоть немного: он боялся, что без него с фашистами как следует не расправятся, потому что никто так не почувствовал врага, как он, умирающий, живущий при смерти и медленно казнимый…