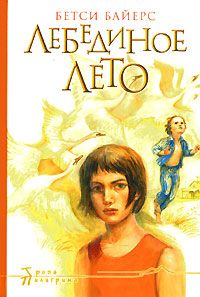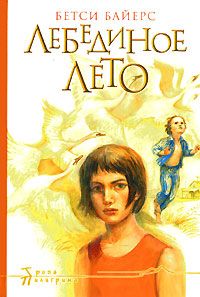Булат Окуджава - Похождения Шипова, или Старинный водевиль
— Во-он как! — обрадовался смотритель.
— Родственники мы, — заявил Михаил Иванович, — братья.
«Вот и свиделись с графом!» — подумал он с умилением.
— Крестьянских детишек на кумыс лечить повез, — сказал смотритель.
— Знаю, а как же, — выдавил Шипов, работая ложкой, — это помогает… Они мне тоже кричали все: «Давай к нам, дядя Миша!..» Нет уж, шельмецы, мне пройтись охота…
— Душа у него добрая, — сказала баба, — нешто другой кто будет об людях своих так заботиться?
— Добрая, — отозвался Михаил Иванович, — а как же. Он и деньгами всегда поделится. Просто сетребьен.
— Во-он как, — сказал смотритель.
«Господи, — подумал Шипов, — надо бы мне в карету к ним сесть! Ручку бы поцеловать благодетелю… Да что вы, да зачем это вы?.. А это, мол, ваше сиятельство, великая тайна. Эх, недотепа, побрезговал в графскую карету сесть, а уж звали-то как, звали-то!»
И тут капризная память распахнула крылья и стремглав перелетела за многие годы назад, ибо только ей это доступно, и Шипов увидел, как он сам, четырнадцатилетний, бежит по княжескому двору, сгибаясь под тяжестью подноса, и дымчатые рюмочки звенят, и голубые бокалы с золотыми вензелями покачиваются… Голова у Шилова сдавлена железным горячим обручем, в глазах рябит, ноги не слушаются, но он бежит или ему кажется, что бежит, он плывет, скользит, как был обучен, и у самого стола, где вся княжеская семья в сборе, чуть изгибается, и на ореховый паркет летит хрустальное богатство вдребезги.
Ловкая пятерня дворецкого сгребает его ухо, крутит, и Мишку ведут вон. И вдруг вся княжеская семья приходит в движение, все вскакивают из-за стола.
— Не сметь! — кричит князь Василий Андреевич. — Как ты смеешь!
И дворецкий выпускает ухо Шилова. Все сбиваются вокруг, что-то говорят, кричат, толкаются.
— Боже мой, — говорит княгиня, щупая его лоб, — да он же совсем больной!
— Он совсем больной!
— Это горячка!
— Как вы смеете хватать мальчика за ухо! Отведите его сейчас же в людскую, пусть его там уложат…
Его медленно ведут по голубым осколкам.
— Ничего, — смеется молодой князь и подмигивает ему, — битая посуда на счастье.
И все облегченно смеются., .
Мишку укладывают в людской. Он бредит. Дворецкий ходит на цыпочках. Кухарка кладет больному на лоб мохнатую тряпку… Проходит неделя-другая, и вот он здоров и, худой, зеленоглазый, бежит с подносом в княжескую столовую, где все уже сидят по своим местам, и все очень рады его выздоровлению, и все улыбаются…
«А может, — подумал Михаил Иванович, — кабы мне тогда кумысу, мне бы и полегчало? Кто ж его знает… Кумыс, аншанте…»
— А что, ваше сиятельство, — сказал смотритель, — а велю-ка я людям съездить за каретой вашей… Да и сам с ними поеду, так оно верней будет…
— Да что за беспокойство? — забеспокоился Михаил Иванович и сказал как мог снисходительней: — Мой Петруха привычный в лесу ночевать.
— Прикажи, прикажи, — сказала баба, — видишь, их сиятельство скромные какие.
И смотритель ушел распоряжаться.
«Теперь не переночевать на перине, — понял Михаил Иванович. — Теперь давай бог ноги».
Под окном всхрапнули лошади, и копыта глухо забарабанили по траве.
— Да вы не скучайте, — сказала баба, — они мигом обернутся. Может, вам еще чего подать? Может, кашки?
— Мерси, — сказал Шипов, холодея. — Пойду-ка я перед сном погуляю. Больно вечер хорош. — И неторопливо вышел.
Стемнело уже основательно. В ночной темноте да в тишине четко слышался удаляющийся в сторону Тулы конский топот. Нужно было поторапливаться. Михаил Иванович медленно, вразвалочку, дошел до тракта, оглянулся на окна станции и, подобно ночному хорьку, скользнул в придорожные кусты.
Разгребая руками ветки, он заспешил, заспешил, почти что побежал, да нет, и впрямь побежал вдоль Московского тракта, чуя за спиной опасность. Попробовал выскочить на дорогу, чтобы легче было, но тут откуда ни возьмись вывалилась здоровенная луна, и снова пришлось красться лесом, натыкаясь на кусты и корни. Скорей, скорей, покуда добрые люди не разгадали обмана… А какой, собственно, обман? Ну, миску щей съел, ну, денег не дал, а где их взять? Ну, про графа закрутил… Да будя уж вам серчать-то!
Лес внезапно оборвался, открылось бескрайнее поле, озаренное лунным светом.
«Нельзя на свету, нельзя, — сообразил Шипов, задыхаясь, — нельзя! Увидят!» И вдруг вдалеке засеребрилась копна. И он поскакал через поле, пригибаясь, черным комочком, попрыгунчиком, придерживая рукою котелок, при последнем издыхании добрался до твердой, прошлогодней копны и закрутился весь, завился, заработал руками и ногами, зарываясь в душную нору. Лицо его горело от множества острых и безжалостных стрел, рот был полон горькой пыли, обезумевшие насекомые сновали по его телу, щекотали его и кусали, а он был счастлив, что нашел себе такое укромное логово. «Мышка, мышка, — подумал он, — серенькая мышка. Какая охота идет!»
И действительно, в скором времени послышался топот, приблизился. Всадники подскакали к самой копне и остановились.
— Куда ж ему здесь уйти? — послышался голос смотрителя. — Здесь ему не уйти, некуда. Он, видно, через лес, наискосок, пошел, шельма.
— Топает сейчас, ушкуйник, небось верст с десять отмахал, — сказал другой.
— Вот жулье! — отозвался третий. — Креста на нем нет. Оглоблей бы его…
— Нет, — сказал смотритель, — зачем оглоблей? Я бы его раздел, медом бы всего обмазал да в муравьиную кучу…
— За такие дела не медом мазать, — сказал второй, — на кол сажать.
— Я как чувствовал, — сказал смотритель, — деньги, спрашиваю, дал? Нет, говорит, гулять пошел… Ах, ты, такая-сякая, эдак мы щей не напасемся, даром кормить. Гулять пошел, каналья… Я и смотрю, он мне разыгрывает: граф, мол, он…
— Я его давеча заприметил, — сказал третий, — пока мы, стало быть, запрягали, он, стало быть, на опушке сидел, за кусточком, котелок еще на нем черный…
— Ах ты пропасть, — сказал смотритель, — паралик его расшиби, ну, погоди, попадись только… Я из него душу-то выну…
— Да ладно уж, — засмеялся третий, — чего уж там. Поехали обратно. А ты считай, слышь, будто страннику щи скормил…
Голоса начали удаляться и постепенно затихли.
«Спас господь, — подумал Шипов, — пожалел. — И полез аккуратно из норы на волю. — И чего меня носит по полям да по лесам? Али я зверь какой?»
Теперь уже было не до сна. Нужно было уходить подальше, а не то и впрямь медом вымажут да в этот самый… Ах ты, мезальянс какой! Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте…
И с этим криком в душе, подставляя горящее лицо ночной прохладе, он двинулся к Москве. Она возникла не сразу. Еще нужно было помытарствовать не одну ночь и просить хлеба, прежде чем перед ним не замаячила она на рассвете седьмых суток путешествия, когда, обувшись в сапоги, обтерев их от дорожной пыли старой бумагой, приосанившись, пустился он легким шагом из деревни Верхние Котлы вниз по внезапно раздавшемуся в ширину тракту, к белым стенам Даниловского монастыря. Ликование Шипова было так велико, что все страхи и дурные предчувствия приутихли на короткое время, забылись, словно только и не хватало ему добраться до этих белых стен, чтобы навсегда уже оказаться под их защитой.
Тут Москва и оборотилась к нему лицом, загрохотала телегами, возами, кузницами, закричала на разные голоса, запестрела разноликим окраинным скарбом. От боен потянуло горячей, свежей кровью, от мастерских — кожей, от харчевен — едой; рев скотины перемежался с криками людей, и непрерывно звенело что-то: то ли бубенцы на дугах, то ли коровьи колокольчики, то ли наковальни под молотами, то ли чей-то рассыпчатый смех; и от белых стен монастыря уже виднелась она, матушка, вся в розовой рассветной неге, поблескивающая золотыми куполами церквей, устремленными в синее небо.
Все живое тянулось в этот час к Серпуховской заставе — в Москву, в Москву. И мастеровые артелями топали по пыльному тракту, и цыгане с ручными медведями — потешать и обманывать столицу, и возы с дарами природы, чтобы забить до отказа бесчисленные торговые ряды. Все тянулось к Москве, словно бурная река текла в неведомую прорву, безуспешно пытаясь наполнить ее.
И Шипов шел как бы в окружении большого оркестра, и знакомая музыка московской окраины гремела вокруг, вдохновляя его и балуя. Ах, мало выпадало баловства на долю Михаила Ивановича, мало, ну, может быть, лишь то, что он сам принимал за баловство по собственной бесхитростности, а тут сразу и толпа, будто полная к нему любви, будто ради него собравшаяся, и музыка, и всякие там надежды, которые запорхали вокруг, подобно сонму прозрачных мотыльков.
Вот он миновал Серпуховскую заставу, пересек поле, пошел по Мытной. Открывались лавки, кричали разносчики, пахло свежими пирогами, потянулись первые пролетки.