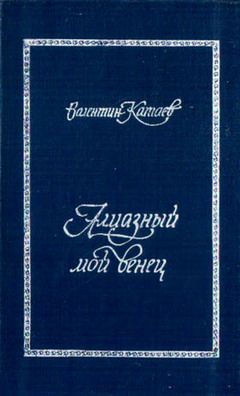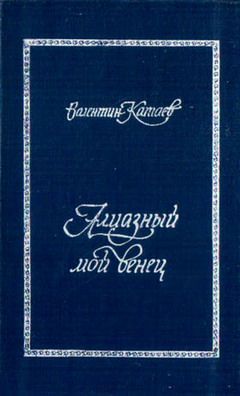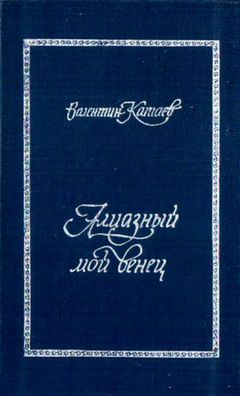Валентин Катаев - Алмазный мой венец
Меня он не заметил.
Проплыл мимо, мягко подпрыгивая на дутиках, и я как старший брат, с одной стороны, был доволен, что из него, как говорится, "вышел человек", а с другой стороны, чувствовал некоторое неодобрение по поводу его образа жизни, хотя сам вел себя в таком же духе, если не хуже.
Наша встреча произошла на том самом месте, где несколько лет спустя Командор назначил мне свидание, с тем чтобы накануне очередной октябрьской годовщины мы пошли в МК и там в отделе пропаганды сочинили бы вместе стихотворные лозунги для праздничной демонстрации на Красной площади после военного парада.
Приглашая меня на эту совместную поэтическую работу, Командор строго заметил:
- Но имейте в виду - это бесплатно. Это наш с вами гражданский долг.
МК помещался тут же рядом, в том особняке, где сейчас находится Прокуратура СССР, и мы сидели в пустой комнате агитпропа и сочиняли лозунги, которые потом, написанные на кумачовых полотнищах, поплыли над толпой по улицам Москвы, а потом через всю Красную площадь мимо Мавзолея, еще в то время деревянного.
По странному стечению обстоятельств через несколько лет на том же самом месте мы встретились с Командором, шагавшим на голову выше остальных прохожих. Он только что написал "Марш времени" для своей "Бани" и тут же в такт своим чугунным шагам прочитал его мне: видимо, ему не терпелось лишний раз проверить его звучание среди шумной улицы революционной Москвы.
"Вперед, время! Время, вперед!"
Этот кусок города сохранился до сих пор почти в полной неприкосновенности, подобно тому как среди обломков моей разрушающейся и перестраивающейся памяти сохранилось видение Командора, выбрасывающего вперед шагающие ноги с задранными тупыми носами башмаков, и клюквенно-красного, отражающего солнышко воздушного шарика, плывущего над экипажем моего брата, которому в недалеком будущем предстояло сделаться соавтором знаменитого на весь мир романа.
Сейчас я вам, синьоры, расскажу, каким образом появился на свет этот роман.
Прочитав где-то сплетню, что автор "Трех мушкетеров"
писал свои многочисленные романы не один, а нанимал нескольких талантливых литературных подельщиков, воплощавших его замыслы на бумаге, я решил однажды тоже сделаться чем-то вроде Дюма-пе'ра и командовать кучкой литературных наемников. Благо в это время мое воображение кипело и я решительно не знал, куда девать сюжеты, ежеминутно приходившие мне в голову. Среди них появился сюжет о бриллиантах, спрятанных во время революции в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура.
Сюжет не бог весть какой, так как в литературе уже имелось "Шесть Наполеонов" Конан-Дойля, а также уморительно смешная повесть молодого, рано умершего советского писателя-петроградца Льва Лунца, написавшего о том, как некое буржуазное семейство бежит от советской власти за границу, спрятав свои бриллианты в платяную щетку.
Маленький, худенький, с прелестным личиком обреченного на раннюю смерть, Лев Лунц, приведенный Кавериным в Мыльников переулок, с такой серьезностью читал свою повесть, что мы буквально катались по полу от смеха.
Ну и еще кое-что в этом роде я слышал в ту пору.
Тогда я носился со своей теорией движущегося героя, без которого не может обойтись ни один увлекательный роман: он дает возможность переноситься в пространстве и включать в себя множество происшествий, что так любят читатели.
Теперь-то я знаю, что теория моя ошибочна. Сейчас у меня совсем противоположное мнение: в хорошем романе (хотя я и не признаю деление прозы на жанры) герой должен быть неподвижен, а обращаться вокруг него должен весь физический мир, что и составит если не галактику, то, во всяком случае, солнечную систему художественного произведения.
Ну а тогда, увлекаясь гоголевским Чичиковым, я считал, что сила "Мертвых душ" заключается в том, что Гоголю удалось найти движущегося героя. В силу своей страсти к обогащению Чичиков принужден все время быть в движении - покупать у разных людей мертвые души.
Именно это позволило автору создать целую галерею человеческих типов и характеров, что составляет содержание его разоблачительной поэмы.
Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране, давало, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времен нэпа.
Все это я изложил моему другу и моему брату, которых решил превратить по примеру Дюма-пера в своих литературных негров: я предлагаю тему, пружину, они эту тему разрабатывают, облекают в плоть и кровь сатирического романа. Я прохожусь по их писанию рукой мастера. И получается забавный плутовской роман, в отличие от Дюма-пера выходящий под нашими тремя именами. А гонорар делится поровну.
Почему я выбрал своими неграми именно их - моего друга и моего брата? На это трудно ответить. Тут, вероятно, сыграла известную роль моя интуиция, собачий нюх на таланты, даже еще не проявившиеся в полную силу.
Я представил себе их обоих - таких разных и таких ярких - и понял, что они созданы для того, чтобы дополнять друг друга. Мое воображение нарисовало некоего двуединого гения, вполне подходящего для роли моего негра.
До этого дня они оба были, в общем, мало знакомы друг с другом. Они вращались в разных литературных сферах. Я предложил им соединиться. Они не без любопытства осмотрели друг друга с ног до головы. Между ними проскочила, как говорится в старых романах, электрическая искра. Они приветливо улыбнулись друг другу и согласились на мое предложение.
Возможно, их прельстила возможность крупно заработать; чем черт не шутит! Не знаю. Но они согласились. Я же уехал на Зеленый мыс под Батумом сочинять водевиль для Художественного театра, оставив моим крепостным довольно подробный план будущего романа.
Несколько раз они присылали отчаянные телеграммы, прося указаний по разным вопросам, возникающим во время сочинения романа.
Сначала я отвечал им коротко:
"Думайте сами".
А потом и совсем перестал отвечать, погруженный в райскую жизнь в субтропиках, среди бамбуков, бананов, мандаринов, висящих на деревьях как маленькие зеленожелтые фонарики, деля время между купаньем, дольче фар ньенте и писанием "Квадратуры крута".
Еще почти совсем летнее октябрьское солнце, косые черноморские волны, безостановочно набегающие на пляж, те самые волны, о которых по ту сторону Зеленого мыса сочинял мулат, еще более посмуглевший на аджарском солнце, следующие строки:
"...их много. Им немыслим счет. Их тьма. Они шумят в миноре. Прибой, как вафли, их печет... В родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту".
Боюсь, что к своему концу я действительно впадаю в ересь неслыханной простоты.
Но что же делать, если так случилось? Впрочем, мовизм - это и есть простота, но не просто простота, а именно неслыханная...
Так пел мулат за Зеленым мысом в Кобулетах -
"...обнявшись, как поэт в работе, что в жизни порознь видно двум,одним концом ночное Поти, другим - светящийся Батум"...
Но я пытаюсь быть пощаженным, соединив в этом своем сумбурном выступлении ересь сложности с ересью неслыханной простоты, чего так и не удалось в своей прозе достигнуть мулату.
Брат и друг обиделись на мое молчание и перестали тревожить меня телеграммами с мольбами о помощи.
Иногда я совершал набег на Батум с бамбуковыми галереями его гостиниц, с бархатной мебелью духанов, где подавалось ни с чем не сравнимое кипиани в толстых бутылках с красно-золотыми этикетками, нанимал ялик, выезжал на батумский рейд и, сбрасывая с себя одежду, бросался в темную, уже почти ночную воду акватории, покрытую павлиньими перьями нефти.
Пока мои спутники, два грузинских поэта, оставшихся в ялике, с ужасом восхищались моим молодецким поступком, я плавал и нырял среди пароходов, черные корпуса которых были вблизи такими огромными, что рядом с их красными рулями высотой с двухэтажный дом я сам себе казался зеленым лягушонком, готовым каждый миг пойти ко дну, как бы затянутый в зловещую пропасть.
Я испугался.
Грузинские поэты вытащили меня за руки в ялик, и я, испуганный и озябший, натянул одежды на свое мокрое тело, так как нечем было вытереться; грудь моя была поцарапана о борт ялика, когда меня вытаскивали.
Вскоре, закончив водевиль, я покинул райскую страну, где рядом с крекинг-заводом сидели в болоте черные, как черти, буйволы, выставив круторогие головы, где местные наркомы в башлыках, навороченных на голову, ездили цугом в фаэтонах с зажженными фонарями по сторонам козел, направляясь в загородные духаны пировать, и их сопровождал особый фаэтон, в котором ехал шарманщик, крутивший ручку своей старинной шарманки, издававшей щемящие звуки австрийских вальсов и чешских полек, где старуха-аджарка в чувяках продавала тыквенные семечки, сидя под лохматым, как бы порванным банановым листом, служившим навесом от солнца...