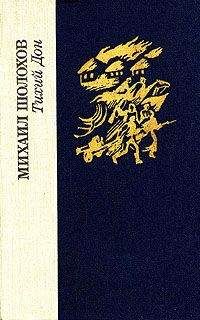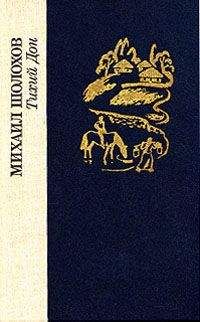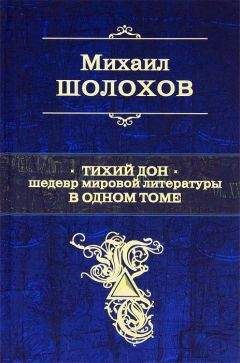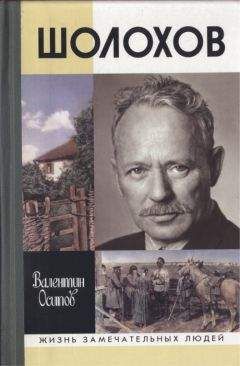Михаил Шолохов - Тихий Дон
Их было семь человек. Все они – жители окрестных хуторов – обосновались в дубраве с осени прошлого года, когда началась мобилизация. Жили в просторной землянке по-хозяйски домовито и почти ни в чем не нуждались. Ночами часто ходили проведывать семьи; возвращаясь, приносили хлеб, сухари, пшено, муку, картофель, а мясо на варево без труда добывали в чужих хуторах, изредка воруя скот.
Один из дезертиров, некогда служивший в 12-м казачьем полку, опознал Григория, и его приняли без особых пререканий.
* * *Григорий потерял счет томительно тянувшимся дням. До октября он кое-как прожил в лесу, но когда начались осенние дожди, а затем холода – с новой и неожиданной силой проснулась в нем тоска по детям, по родному хутору…
Чтобы как-нибудь убить время, он целыми днями сидел на нарах, вырезывал из дерева ложки, выдалбливал миски, искусно мастерил из мягких пород игрушечные фигурки людей и животных. Он старался ни о чем не думать и не давать дороги к сердцу ядовитой тоске. Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами тоска воспоминаний одолевала его. Он подолгу ворочался на нарах и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не слышал от него ни слова жалобы, но по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил рукою по лицу – щеки его и отросшая за полгода густая борода были мокры от слез.
Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные близкие, кого уже не было в живых. Вся жизнь Григория была в прошлом, а прошлое казалось недолгим и тяжким сном. «Походить бы ишо раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать», – часто думал он.
На провесне как-то днем неожиданно заявился Чумаков. Он был мокр по пояс, но по-прежнему бодр и суетлив. Высушив одежду возле печурки, обогревшись, подсел к Григорию на нары.
– Погуляли же мы, Мелехов, с той поры, как ты от нас отбился! И под Астраханью были, и в калмыцких степях… Поглядели на белый свет! А что крови чужой пролили – счету нету. У Якова Ефимыча жену взяли заложницей, имущество забрали, ну, он и остервенился, приказал рубить всех, кто Советской власти служит. И зачали рубить всех подряд: и учителей, и разных там фельдшеров, и агрономов… Черт-те кого только не рубили! А зараз – кончили и нас, совсем, – сказал он, вздыхая и все еще ежась от озноба. – Первый раз разбили нас под Тишанской, а неделю назад – под Соломным. Ночью окружили с трех сторон, оставили один ход на бугор, а там снегу – лошадям по пузо… С рассветом вдарили из пулеметов, и началось… Всех посекли пулеметами. Я да сынишка Фомина – только двое и спаслись. Он, Фомин-то, Давыдку своего с собой возил с самой осени. Погиб и сам Яков Ефимыч… На моих глазах погиб. Первая пуля попала ему в ногу, перебила коленную чашечку, вторая – в голову, наосклизь. До трех раз падал он с коня. Остановимся, подымем, посадим в седло, а он проскачет трошки и опять упадет. Третья пуля нашла его, ударила в бок… Тут уж мы его бросили. Отскакал я на сотенник, оглянулся, а его уже лежачего двое конных шашками полосуют…
– Что ж, так и должно было получиться, – равнодушно сказал Григорий.
Чумаков переночевал у них в землянке, утром стал прощаться.
– Куда идешь? – спросил Григорий.
Улыбаясь, Чумаков ответил:
– Легкую жизню шукать. Может, и ты со мной?
– Нет, топай один.
– Да, мне с вами не жить… Твое рукомесло, Мелехов, – ложки-чашки вырезывать – не по мне, – насмешливо проговорил Чумаков и с поклоном снял шапку: – Спаси Христос, мирные разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу – разве это жизня?
Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.
– Домой? – спросил у него один из дезертиров.
И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:
– Домой.
– Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.
– Нет, не могу ждать, – сказал Григорий и распрощался.
Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.
У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.
Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.
Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.
Григорий подошел к спуску, – задыхаясь, хрипло окликнул сына:
– Мишенька!.. Сынок!..
Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца…
Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:
– Сынок… сынок…
Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:
– Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка – живые-здоровые?
По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:
– Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью… От глотошной. А дядя Михаил на службе…
Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына…
Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.
КонецСловарь местных слов
Атаманец – казак Атаманского полка, гвардеец.
Бабайки – весла.
Будылья – стебли.
Валух – выхолощенный баран.
Вахли – сетка, в которой носят сено.
Веретенка – небольшая стерлядь.
Верхи – верхом.
Взгальный – взбалмошный, сумасбродный.
Виё – дышло в бычачьей упряжке.
Вназирку – не теряя из виду.
Вовзят – совсем, вовсе.
Водворка – дочь, за которую в дом принимают зятя.
Вот так голос! – Вот так так! Вот это да!
Вязы – шея.
Гас – керосин.
Грохот – большое ручное решето для подсевки зерна.
Дрям – хворост, валежник.
Дудак – дрофа.
Ерик – ручей.
Живцы – треноги.
Жменя – горсть.
Завеска – фартук.
Заноза – стержень, который замыкает шею вола в ярме.
Зимовники – хутора в коневодческих районах, где зимовали с лошадьми.
Каймак – сливки с топленого молока.
Каков голос! – Каково!
Калкан – жировой нарост на шее, загривке у животных.
Карша – коряга.
Кляч – крученая (из хвороста) петля.
Кобаржина – острая хребтина.
Кошевки – род саней.
Крыга – льдина.
Куга – болотное растение; осока.
«Кугарь», «куга зеленая» – прозвище молодых казаков. Стебель и листья куги – ярко-зеленого цвета.
Кулага – лапша с сушеной вишней.
Лазоревый цветок – так называют на Дону дикорастущий тюльпан.
Лохуны – лохмотья.
Лунки – выкормка лошадей на подножном корму.
Макуха – жмыхи.
Маштак – крепкая, малорослая лошадь.
Мирошник – мельник; работник на мельнице.
Музга – небольшое озерцо, болотце в степи.
Налыгач – часть воловьей упряжи, род повода; веревка, привязанная концами к рогам волов.
Наслуз – пропитанный водою снег.
Обыденки – один день; в тот же день.
Односум – товарищ в походе, сослуживец.
Отвод – место, отведенное под попас жеребцов с матками.
Пеши, пешки – пешком.
Пешня – железный лом с деревянной рукоятью.
Пичкатые сани – розвальни.
Пластуны – в царской армии так назывались пешие казачьи части.
Подземка – низенькая печурка; подземку часто делают под кроватью, с дымоходом под полом.
Полипоны – кличка старообрядцев.
Поречье – пушной водяной зверек; норка, выдра.
Почунеть – опомниться, очухаться.