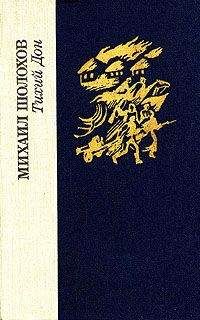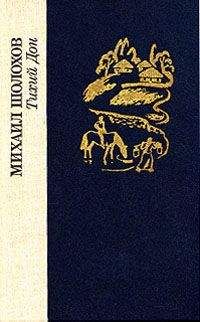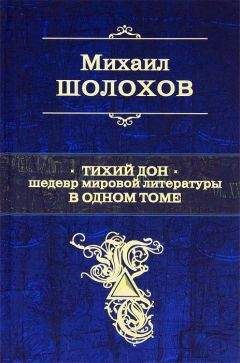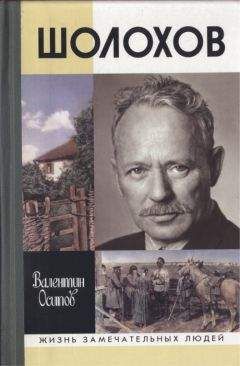Михаил Шолохов - Тихий Дон
Несколько человек терских и кубанских казаков в поношенных черкесках, двое калмыков станицы Великокняжеской, латыш в охотничьих, длинных, до бедер, сапогах и пятеро матросов-анархистов в полосатых тельняшках и выгоревших на солнце бушлатах еще больше разнообразили и без того пестро одетый, разнородный состав фоминской банды.
– Ну и теперь будешь спорить, что у тебя не разбойнички, а эти, как их… идейные борцы? – спросил однажды у Фомина Чумаков, указывая глазами на растянувшуюся походную колонну. – Только попа-расстриги да свиньи в штанах нам и не хватает, а то был бы полный сбор Пресвятой Богородицы…
Фомин перемолчал. Единственным желанием его было – собрать вокруг себя как можно больше людей. Он ни с чем не считался, принимая добровольцев. Каждого, изъявлявшего желание служить под его командованием, он опрашивал сам, коротко говорил:
– К службе годен. Принимаю. Ступай к моему начальнику штаба Чумакову, он укажет, в каком взводе тебе состоять, выдаст на руки оружие.
В одном из хуторов Мигулинской станицы к Фомину привели хорошо одетого курчавого и смуглолицего парня. Он заявил о своем желании вступить в банду. Из расспросов Фомин установил, что парень – житель Ростова, был осужден недавно за вооруженное ограбление, но бежал из ростовской тюрьмы и, услышав про Фомина, пробрался на Верхний Дон.
– Ты кто таков по роду-племени? Армянин или булгарин? – спросил Фомин.
– Нет, я еврей, – замявшись, ответил парень.
Фомин растерялся от неожиданности и долго молчал. Он не знал, как ему поступить в таком столь непредвиденном случае. Пораскинув умом, он тяжело вздохнул, сказал:
– Ну что ж, еврей так еврей. Мы и такими не гребуем… Все лишним человеком больше. А верхом ездить ты умеешь? Нет? Научишься! Дадим по-первам тебе какую-нибудь немудрячую кобыленку, а потом научишься. Ступай к Чумакову, он тебя определит.
Несколько минут спустя взбешенный Чумаков подскакал к Фомину.
– Ты одурел али шутки шутишь? – крикнул он, осаживая коня. – На черта ты мне жида прислал? Не принимаю! Нехай метется на все четыре стороны!
– Возьми, возьми его, все счетом больше будет, – спокойно сказал Фомин.
Но Чумаков с пеной на губах заорал:
– Не возьму! Убью, а не возьму! Казаки ропот подняли, ступай сам с ними рядись!
Пока они спорили и пререкались, возле обозной тачанки с молодого еврея сняли вышитую рубашку и клешистые суконные штаны. Примеряя на себя рубашку, один из казаков сказал:
– Вон, видишь за хутором – бурьян-старюка? Беги туда рысью и ложись. Лежать будешь – пока мы уедем отсюдова, а как уедем – вставай и дуй куда хочешь. К нам больше не подходи, убьем, ступай лучше в Ростов к мамаше. Не ваше это еврейское дело – воевать. Господь Бог вас обучал торговать, а не воевать. Без вас управимся и расхлебаем эту кашку!
Еврея не приняли, зато в этот же день со смехом и шутками зачислили во второй взвод известного по всем хуторам Вешенской станицы дурачка Пашу. Его захватили в степи, привели в хутор и торжественно обрядили в снятое с убитого красноармейца обмундирование, показали, как обращаться с винтовкой, долго учили владеть шашкой.
Григорий шел к своим лошадям, стоявшим у коновязи, но, увидев в стороне густую толпу, направился туда. Взрыв хохота заставил его ускорить шаг, а затем в наступившей тишине он услышал чей-то поучающий, рассудительный голос:
– Да не так же, Паша! Кто так рубит? Так дрова можно рубить, а не человека. Надо вот так, понял? Поймаешь – и сразу приказывай ему становиться на колени, а то стоячего тебе рубить будет неспособно… Станет он на колени, и ты вот так, сзади, и секани его по шее. Норови не прямо рубить, а с потягом на себя, чтобы лезвие резало, шло наискось…
Окруженный бандитами, юродивый стоял навытяжку, крепко сжимая эфес обнаженной шашки. Он слушал наставления одного из казаков, улыбаясь и блаженно жмуря выпученные серые глаза. В углах рта его, словно у лошади, белели набитые пенистые заеди, по медно-красной бороде на грудь обильно текли слюни… Он облизывал нечистые губы и шепеляво, косноязычно говорил:
– Все понял, родненький, все. Так и сделаю… поставлю на коленочки раба Божьего и шеечку ему перережу… как есть перережу! И штаны вы мне дали, и рубаху, и сапоги… Вот только пальта у меня нету… Вы бы мне пальтишечку справили, а я вам угожу! Изо всех силов постараюсь!
– Убьешь какого-нибудь комиссара – вот тебе и пальто. А зараз рассказал бы, как тебя в прошлом году женили, – предложил один из казаков.
В глазах юродивого, расширившихся и одетых мутной наволочью, мелькнул животный страх. Он длинно выругался и под общий хохот стал что-то говорить. Так омерзительно было все это, что Григорий содрогнулся, поспешно отошел. «И вот с такими людьми связал я свою судьбу…» – подумал он, охваченный тоской, горечью и злобой на самого себя, на всю эту постылую жизнь…
Он прилег возле коновязи, стараясь не слушать выкриков юродивого и грохочущего хохота казаков. «Завтра же уеду. Пора!» – решил он, посматривая на своих сытых, поправившихся лошадей. Он готовился к уходу из банды тщательно и обдуманно. У зарубленного милиционера взял документы на имя Ушакова, зашил их под подкладку шинели. Лошадей стал подготавливать к короткому, но стремительному пробегу еще две недели назад: вовремя поил их, чистил так старательно, как не чистил и на действительной службе, всеми правдами и неправдами добывал на ночевках зерно, и лошади его выглядели лучше, чем у всех остальных, особенно тавричанский серый в яблоках конь. Он весь лоснился, и шерсть его сверкала на солнце, как кавказское черненое серебро.
На таких лошадях можно было смело уходить от любой погони. Григорий встал, пошел в ближний двор. У старухи, сидевшей на порожках амбара, почтительно спросил:
– Коса есть у вас, бабушка?
– Где-то была. Только чума ее знает, где она. А на что тебе?
– Хотел в вашей леваде зеленки лошадям скосить. Можно?
Старуха подумала, потом сказала:
– И когда уж вы с нашей шеи слезете? То вам дай, это подай… Одни приедут – зерна требуют, другие приедут – тоже тянут и волокут все, что глазом накинут. Не дам я тебе косы! Как хочешь, а не дам.
– Что ж, тебе травы жалко, божья старушка?
– А трава, она что ж, по-твоему, на пустом месте растет? А корову чем я буду кормить?
– Мало в степи травы?
– Вот и поезжай туда, соколик. В степи ее много.
Григорий с досадой сказал:
– Ты, бабушка, лучше дай косу. Я трошки скошу, остальное тебе останется, а то, ежели пустим туда лошадей, – все потравим!
Старуха сурово глянула на Григория и отвернулась.
– Ступай сам возьми, она никак под сараем висит.
Григорий разыскал под навесом сарая старенькую порванную косу и, когда проходил мимо старухи, отчетливо слышал, как та проговорила: «Погибели на вас, проклятых, нету!»
К этому было не привыкать Григорию. Он давно видел, с каким настроением встречают их жители хуторов. «Они правильно рассуждают, – думал он, осторожно взмахивая косой и стараясь выкашивать чище, без огрехов. – На черта мы им нужны? Никому мы не нужны, всем мешаем мирно жить и работать. Надо кончать с этим, хватит!»
Занятый своими мыслями, он стоял около лошадей, смотрел, как жадно хватают они черными бархатистыми губами пучки нежной молодой травы. Из задумчивости его вывел юношеский ломающийся басок:
– До чего конь расхорош, чисто – лебедь!
Григорий глянул в сторону говорившего. Молодой, недавно вступивший в банду казачишка Алексеевской станицы смотрел на серого коня, восхищенно покачивая головой. Не сводя очарованных глаз с коня, он несколько раз обошел вокруг него, пощелкал языком:
– Твой, что ли?
– А тебе чего? – неласково ответил Григорий.
– Давай меняться! У меня гнедой – чистых донских кровей, любую препятствию берет и резвый, до чего резвый! Как молонья!
– Ступай к черту, – холодно сказал Григорий.
Парень помолчал немного, вздохнул огорченно и сел неподалеку. Он долго рассматривал серого, потом сказал:
– Он у тебя с запалом. И отдушины у него нету.
Григорий молча ковырял в зубах соломинкой. Наивный паренек ему начинал нравиться.
– Не будешь меняться, дяденька? – тихо спросил тот, глядя на Григория просящими глазами.
– Не буду. И самого тебя в додачу не возьму.
– А откуда у тебя этот конь?
– Сам выдумал его.
– Нет, взаправди!
– Все из тех же ворот: кобыла ожеребила.
– Вот и погутарь с таким дураком, – обиженно проговорил парень и отошел в сторону.
Пустой, словно вымерший, лежал перед Григорием хутор. Кроме фоминцев, ни души не было видно вокруг. Брошенная на проулке арба, дровосека во дворе с наспех воткнутым в нее топором и с недотесанной доской возле, взналыганные быки, лениво щипавшие посреди улицы низкорослую траву, опрокинутое ведро около колодезного сруба – все говорило о том, что мирное течение жизни в хуторе было неожиданно нарушено и что хозяева, бросив незаконченными свои дела, куда-то скрылись.