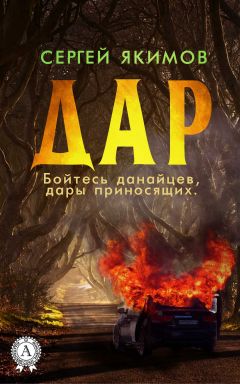Юрий Бессонов - Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков
Я ничего не понимал. Бывший офицер! Он же командир полка! Он же арестованный. Ловит беглецов. С Соловков можно бежать. Почему он сам не бежит? Трудно было на мой взгляд совместить это, и понял я это только на Соловках.
На Поповом острове, было только три «административных лица» из центра. Начальник лагеря Кирилловский и его два помощника: один по административной, другой по хозяйственной части. Все остальные места занимались арестованными же.
Тонко и умно построили большевики Соловецкую каторгу... Да собственно и всю Pocсию.
Лишив людей самого необходимого, то есть пищи и крова, они же дали им и выход. Хочешь жить, то есть вместо полагающихся тебе 8-ми вершков нару иметь отдельную нару и получать за счет других лучшую пищу, становись начальником. Дави и без того несчастных людей, делайся мерзавцем, доноси на своего же брата, выгоняй его голого на работу... Не будешь давить, будут давить тебя. Ты не получишь 3-х лишних вершков койки, лишнего куска рыбы и сдохнешь с голоду.
И люди идут на компромисс. Да и удержаться трудно, ведь вопрос идет о жизни и смерти...
То же делается и во всей России, но на Соловках это наиболее резко выявлено.
Одним из таких поддавшихся людей и был наш будущий командир полка, знаменитый Ванька Т-в, теперь покойник. Его расстреляли. Он бывший офицер. За участие в белых войсках попал на Соловки. Есть было нечего, он поддался и дошел до должности командира полка. Но я никак не могу сказать, что это был совершенно отрицательный тип. Он хотел жить, делал свою «карьеру», но никогда не давил своего брата — «контрреволюционера», т.е. арестантов отбывающих наказание по контрреволюционным статьям. Его расстрел еще раз подтверждает, что для того, чтобы служить Советской власти нужно изгадиться до конца. Он не дошел до этого конца и, как непригодный для Советской власти элемент, был уничтожен.
На Севере смеркается рано...
Часа в 4 дня нас выгрузили из вагона. Как всегда, долго возились выстраивая и пересчитывая. Окружили конвоем и повели...
Идти пришлось недалеко, всего версты полторы. Издалека я увидел высокий забор... Вышки часовых... И громадные ворота.
Над ними надпись — «У.С.Л.О.Н.» — «Управление Соловецких лагерей особого назначения». «Кемский распределительный пункт».
Подошли... Все, даже уголовники, всегда наружно бодрящиеся и веселые, как-то приутихли. Жизнь кончается.
Впереди знаменитая Соловецкая каторга... Раскроются ворота. Впустят... И навсегда...
Неужели навсегда? Подумал я.
Нет. Ведь только на три года.
Да не на три, а на всю жизнь. Выхода нет...
Начальник конвоя постучал в дверь, часовой открыл окошечко, посмотрел и сильно дернул за веревку колокола. Гулко, на морозном воздухе раздался звон.
Вышел караульный начальник. Ворота раскрылись... Мы вошли... Они закрылись...
И я на каторге.
«Попов остров» — небольшой островок, кажется, километра три в длину и два в ширину, принадлежит к группе Соловецких островов. С материком он связан дамбой и железнодорожным мостом.
Прежде он служил передаточным пунктом для богомольцев и монахов, едущих на главные Соловецкие острова, находящиеся от него в 60-ти километрах. Теперь это один из самых тяжелых пунктов Соловецкой каторги.
На юго-западном его берегу расположен лагерь Соловецкой каторги. С трех сторон этот кусок сплошного камня, в пол километра в длину и в одну треть ширины омывается морем. Здесь нет ни одного дерева, кое-где он покрыт землей, все остальное гранит. Со стороны моря он окружен переплетенной колючей проволокой. От суши отделен высоким забором. За проволокой и забором — вышки для часовых.
В длину, от ворот, к юго-западному его концу, идет «линейка», то есть на камне настланы доски. Здесь в летнее время, а иногда и зимой — за наказание, происходит поверка.
Справа и слева от нее расположены большие бараки. У ворот — караульное помещение, канцелярия, барак чекистов и барак женщин. В ширину идут мастерские, электрическая станция, кухня, баня, лазарет, политический барак, цейхгауз и карцера.
Кто строил этот уголок, я не знаю. Говорят, что начат он при постройке Мурманской железной дороги, продолжен при пребывании на Севере англичан и кончен большевиками. Причем каждый внес свое: инженеры — плохие бараки, англичане — электрическую станцию, большевики — карцера. Что последнее произведение принадлежит им — это мне известно достоверно.
Нас вывели на линейку...
Остановили и начался прием... С палками в руках, в самой разнообразной одежде, с малиновым цветом на шапке или на петлицах, со всех сторон из всех бараков бежали к нам чекисты... Это была Соловецкая аристократия — войска внутренней охраны — бывшие сотрудники Г.П.У. Наше будущее начальство.
Начался «парад»...
Я был на войне. Слышал команды там, где он имеют действительное значение, где командой нужно вести человека на смерть и поэтому часто в нее вливается и злоба, и ярость, и самая нецензурная ругань, но я никогда не мог представить, чтобы команду нужно было так изгадить и исковеркать, как это сделали чекисты.
Нас было всего около ста человек, и над этими ста голодными, истощенными и замороженным людьми, измывались 25 человек. Это был какой-то сплошной никому ненужный рев. Они изощрялись один перед другим, но чего они хотели от нас, ни они не мы не понимали. Мне кажется это были просто люди уже перешедшие в стадию зверя, которому нужно порычать...
Вдруг сразу несколько человек, приложив руки к шапкам, пародируя старое офицерство, вытянулись и заорали исступленным голосом:
— Смирно! Товарищи командиры!.. — Шел помощник командира полка.
Бывший чекист, бывший проворовавшийся начальник конвойного дивизиона Соловецкого же лагеря. Теперь тоже арестант.
— Ты что? Ты где? Как ты стоишь? — Переплетая каждую фразу руганью заревел он на одного из арестантов.
— Помни, что ты в лагере особого назначения, — кричал он, ударяя на словах «особого назначения».
— В карцер его! — и опять ругань.
— И вот этого, еще и этого, пусть помнят, сукины дети, что они на Со-лов-ках! — растянул он последнее слово.
Моментально куча его сподвижников кинулась исполнять его приказание.
Нас отвели в барак... У меня с собой не было ни одной вещи, но один из арестантов попросил меня взять его узел, с ним я пошел на обыск.
— Деньги есть?
— Нет.
— Врешь! Если найду карцера попробуешь. По глазам вижу, что есть... — Во мне шла борьба... Я молчал...
Кончился обыск. Началось распределение по ротам, я попал в 7-ую.
Для того, чтобы увеличить ответственность за проступки, в Соловках введен воинский устав. — Разделение на роты, взводы и т.д. Все это устроено безалаберно, структура непонятна, но в общем помогает цели, преследуемой большевиками, — помогает давить человека. Конечно этого можно было достигнуть и иначе, но ведь они очень любят вводить все в рамку законности.
Привели меня в роту перед началом вечерней поверки.
Большой барак, шагов 100 в длину и 20 в ширину. Несмотря на мороз, дверь открыта, и несмотря на открытую дверь, ужасающий воздух... Внизу мороз, наверху нечем дышать. Испарения немытого тела, запах трески, одежды, табаку, сырости — все смешалось в густой туман, сквозь который еле мерцали две 10-ти свечевые электрические лампочки.
Все арестанты были дома... Нары в 4 ряда, идущие в длину барака, были сплошь завалены лежащими и сидящими на них людьми... Изможденные, усталые лица... Под лампочками грудой стоят голые тела с бельем и одеждой в руках — бьют вшей.
На одном конце барака — загородка. Там «аристократия» — «командный состав». На другом у окна, — столик, лучшее место и тоже «аристократия», но денежная...
Барак во многих местах в щелях заткнут тряпками.
Вот где придется жить...
Подошли арестанты... Разговор сразу перешел почти на единственную интересовавшую тогда всех тему. — Что слышно в Петрограде об изменении Уголовного кодекса? Я ответил, что я из одиночки и ничего не знаю. Это была одна из тех очередных надежд, которыми должен жить заключенный. Раньше бывали амнистии, разные досрочные освобождения и т.п. В тот момент Соловки жили надеждой на изменение Уголовного кодекса и скидку по новому кодексу двух третей со срока наказания.
Вера в это была колоссальна. Только об этом и говорили, и эту надежду поддерживало начальство. Ему это было выгодно. Есть предел человеческому терпению. И у арестанта оно может лопнуть. Чтобы этого не произошло, начальство решило — пусть верят, нам легче их держать.
Прозвонил колокол...
И сравнительная, усталая тишина барака нарушилась тем же диким ревом, который я слышал при нашем приеме.
На середину барака вышел командир роты.
«На поверку становись!..» Заорал он исступленным голосом.
Нехотя слезали с нар усталые люди... Крик и наказание действуют на человека до известного предела... Видно здесь люди привыкли ко всему.