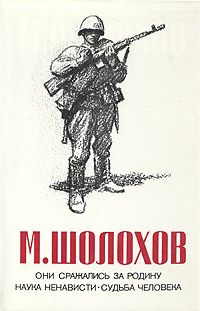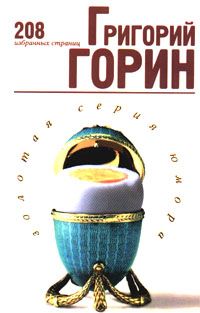Михаил Шолохов - Они сражались за Родину (сборник)
Так и шел он, тихо бормоча, обращаясь к неведомому юнцу, в этот момент олицетворявшему для него всю немецкую армию и все зло, содеянное этой армией на русской земле, зло, которое во множестве видел Звягинцев за время войны, зло, которое и сейчас светило ему в пути зловещими отсветами пожаров.
Мысли вслух помогали Звягинцеву бороться со сном, и как-то утешнее становилось у него на сердце от сознания, но все равно, рано или поздно, но не уйти врагу от расплаты, как бы ни рвался он сейчас вперед, как бы ни пытался отсрочить свою неминучую гибель.
– Придем к тебе с разором, собачий сын, придем! Любишь в гости ходить – люби и гостей принимать! – чуть погромче сказал взволнованный своими рассуждениями Звягинцев.
И в это время устало топавший сзади Лопахин положил ему руку на плечо, спросил:
– Что это ты, комбайнер, бормочешь, как тетерев на току? Подсчитываешь, сколько хлеба сгорело? Брось, не мучайся, на эти убытки у тебя в голове цифр не хватит. Тут профессора математики надо приглашать.
Звягинцев умолк, а потом уже другим, тихим и сонным голосом ответил:
– Это я сон от себя разговором прогоняю… А хлеб мне, как крестьянину, конечно, жалко. Боже мой, какой хлеб-то пропал! Сто, а то и сто двадцать пудов с гектара, это, брат, понимать надо. Вырастить такой хлебец – это тебе не угля наковырять.
– Хлеб, он сам растет, а уголь добывать надо, ну, да это не твоего ума дело, лучше объясни мне, почему ты, как сумасшедший, сам с собой разговариваешь? Поговорил бы со мною, а то бормочешь что-то про себя, а я и думаю: в уме он или последний за эту ночь выжил? Ты сам с собой не смей больше разговаривать, я эти глупости строго воспрещаю.
– Ты мне не начальство, чтобы воспрещать, – с досадой сказал Звягинцев.
– Ошибаешься, дружок, именно я теперь и начальство над тобой.
Звягинцев на ходу повернулся лицом к Лопахину, угрюмо спросил:
– Это почему же такое ты оказался в начальниках?
Лопахин постучал обкуренным ногтем по каске Звягинцева, насмешливо сказал:
– Головой надо думать, а не этой железкой! Почему я начальство над тобой, говоришь? А вот почему: при наступлении командир находится впереди, так? При отступлении – сзади, так? Когда высоту за хутором обороняли, мой окоп был метров на двадцать вынесен впереди твоего, а сейчас вот я иду сзади тебя. Теперь и пораскинь своим убогим умом, кто из нас начальник – ты или я? И ты мне должен в настоящее время не грубить, а, наоборот, всячески угождать.
– Это, то есть, почему же? – еще более раздраженно спросил Звягинцев, плохо воспринимавший шутки и не переносивший балагурства Лопахина.
– А потому, еловая твоя голова, что от полка остались одни мелкие осколки, и если еще малость повоевать с таким же усердием, как и раньше, отстоять еще одну-две высотки, – то как раз останется нас в полку трое: ты да я да повар Лисиченко. А раз трое нас останется, то окажусь я в должности командира полка, а тебя, дурака, назначу начальником штаба. Так что на всякий случай ты дружбу со мной не теряй.
Звягинцев сердито дернул плечом, поправляя винтовочный ремень, и, не поворачиваясь, сдержанно сказал:
– Таких, как ты, командиров не бывает.
– Почему?
– Командир полка должен быть серьезный человек, самостоятельный на слова…
– А я разве несерьезный, по-твоему?
– А ты балабон и трепло. Ты всю жизнь шутки шутишь и языком, как на балалайке, играешь. Ну какой из тебя может быть командир? Грех один, а не командир.
Лопахин слегка покашлял, и, когда заговорил снова, в голосе его явственно зазвучали смешливые нотки:
– Эх, Звягинцев, Звягинцев, простота ты колхозная! Командиры бывают разные по уму и по характеру, бывают среди них и серьезные, и веселые, и умные, и с дурцой, а вот уж начальники штабов все на одну колодку деланные, все они – праведные умницы. В прошедшие времена, доложу я тебе, были такие случаи: командир глуп, как бутылочная пробка, но по характеру человек отважный, напористый, на горло ближнему своему умеет наступить, кое-что в военном деле смыслит, ну, и, конечно, грудь у него, как у старого воробья, колесом, усы в струнку, голос для команды зычный, матерными словами он, браток, владеет в совершенстве, словом, орел-командир, и больше ничего не скажешь. Но в войне на одной бравой выправке далеко не уедешь, ты согласен с этим?
Звягинцев охотно согласился, и Лопахин продолжал:
– Вот в таком случае и дают командиру умного начальника штаба. Глядишь, куда лучше дела у нашего орла-командира пошли! Высшее начальство им довольно, авторитет этого командира растет, будто на дрожжах, все командира прославляют, все о нем говорят, а начальник штаба – умный такой, собака, но замухрыжистый от скромности – под командирской славой, как цветок под лопухом, в тени прячется… Никто его до поры до времени не чествует, никто Иван Ивановичем не зовет, а всему делу он голова, командир-то только вроде вывески. Вот такие дела бывали при царе Фараоне.
Довольно улыбаясь, Звягинцев сказал:
– Иногда ты, Петя, толковые штуки говоришь. Конечно, если мне, скажем к примеру, быть бы возле тебя вроде как бы начальником штаба – то уж я не дал бы тебе всякие глупости вытворять! Все-таки я человек серьезный, а ты, не в обиду тебе будь сказано, с ветерком в голове. Понятно, что при мне у тебя дела пошли бы лучше.
Лопахин огорченно покачал головой, с упреком сказал:
– Вот какой ты, Звягинцев, нехороший человек! Все слова мои повернул в свою пользу…
– Как, то есть, я их повернул? – настороженно спросил Звягинцев.
– Повернул к своей выгоде – вот и все. Неудобно так делать!
– Постой-ка, ты же сам говорил, что при умном начальнике штаба у командира дела идут лучше, говорил ты так или нет?
С лицемерным смирением Лопахин ответил:
– Говорил, говорил, я от своих слов не отказываюсь. Это факт, что дела идут лучше, когда у глуповатого командира умный начальник штаба, но у нас-то с тобой будет как раз наоборот: из меня выйдет толковый командир, а ты, хоть и без князька в голове, все же будешь у меня начальником штаба. Теперь тебе, конечно, безумно интересно знать, почему я именно тебя, такого дурака, и вдруг назначу начальником штаба? Сейчас все объясню, не волнуйся. Во-первых, назначу я тебя только тогда, когда в полку из рядового состава останется в целости только один повар, на веки вечные проклятый богом Петька Лисиченко. Его я переведу в стрелки, им буду командовать, а ты будешь разрабатывать всякие мои стратегические замыслы, попутно кашку будешь варить и тянуться передо мной будешь, как сукин сын. Во-вторых, если, кроме Петьки Лисиченко, в составе полка останется еще хоть несколько бойцов – то не видать тебе должности начштаба, как своих ушей! Тогда самое большее, на что ты можешь рассчитывать, – это должность адъютанта при моей высокой особе. Будешь у меня по совместительству адъютантом и ординарцем. Сапоги будешь мне чистить, за обедом и за водкой на кухню бегать, ну и все такое прочее по хозяйству…
Разочарованно слушавший Звягинцев ожесточенно сплюнул и промолчал. Шагавший рядом с Лопахиным красноармеец тихо засмеялся, и тогда Звягинцев, как видно, выведенный из терпения, сказал:
– Балалайка ты, Лопахин! Пустой человек. Не дай бог под твоим командованием служить. От такой службы я бы на другой же день удавился. Ведь ты за день набрешешь столько, что и в неделю не разберешь.
– А ну, поаккуратней выражайся, а не то и в ординарцы не возьму.
– Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин? – помолчав, спросил Звягинцев.
Лопахин протяжно зевнул, сказал:
– Оно у меня и сейчас есть, а что?
– Что-то не видно по тебе.
– А я свое горе на выставку не выставляю.
– А какое же у тебя, к примеру, горе?
– Обыкновенное по нынешним временам. Белоруссию у меня немцы временно оттяпали, Украину, Донбасс, а теперь и город мой небось заняли, а там у меня жена, отец-старик, шахта, на какой я с детства работал… Товарищей многих за войну я потерял навсегда… Понятно тебе?
– Вот видишь, какой ты человек? – воскликнул Звягинцев. – Этакое у тебя горе, а ты все шутки шутишь. И после этого можно считать тебя серьезным человеком? Нет, пустой ты человек, одна внешность в тебе, а больше ничего нету. Удивляюсь я: как это тебя бронебойщиком поставили? Бронебойщик – это дело серьезное, не по твоему характеру, а характер у тебя веселый, ветреный, и, скажем, в духовом оркестре на какой-нибудь трубе играть, в медные тарелки бить или в барабан деревянной колотушкой стукать было бы для тебя самое подходящее дело.
– Звягинцев, опомнись! Скажи, что эти глупости ты спросонок наговорил, иначе влетит тебе от меня, – с притворным гневом прорычал Лопахин.
Но Звягинцев уже окончательно поборол одолевавший его сон и продолжал говорить с увлечением, иногда поворачиваясь лицом к Лопахину, заглядывая в его сонные, но смеющиеся глаза.