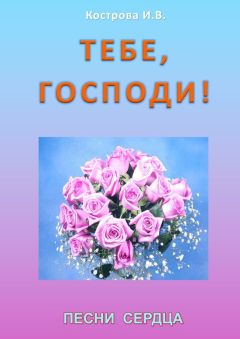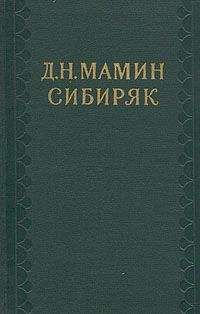Дмитрий Мамин-Сибиряк - Том 3. Горное гнездо
— Расскажи что-нибудь о себе, Виталий Кузьмич! — проговорил генерал, опять рассматривая своего собеседника. — Ну, как ты живешь тут, что делаешь?..
— Что рассказывать: весь налицо… Хорош, нечего сказать. Ха-ха!.. Ну, да я не завидую твоему превосходительству, поверь мне. Так свиньей и останусь до конца дней…
— У тебя, кажется, дочь была?
— Да, была… И теперь оная имеется в наличности. Так, пустельга… Впрочем, ведь на таких людей и существует постоянный спрос. Я пробовал учить ее, тоже воспитывал, да ничего не вышло. В папеньку одним концом пошла, видно…
С каждой новой рюмкой Прозоров хмелел все сильнее и сильнее, пока совсем не свалился на диван, где и заснул…
«Действительно, настоящая свинья…» — с горечью подумал генерал.
XVI
У Майзеля на другой день приезда Лаптева на заводы был маленький деловой вечер с закуской. Жил Майзель, как все немцы, очень плотно. На подъезде картинно лежали два датских дога; на звонок из передней, как вспугнутый вальдшнеп, оторопело выбегал в серой официальной куртке дежурный лесообъездчик; на лестнице тянулся мягкий ковер; кабинет хозяина был убран на охотничий манер, с целым арсеналом оружия, с лосиными и оленьими рогами, с чучелами соколов и громадной медвежьей шкурой на полу. Везде мягкие ковры, бронза, мягкая дорогая мебель, шредеровский рояль в зале, горка с минералогической коллекцией, горка с серебром, горка с фарфором, несколько порядочных картин масляными красками и т. д. Воздух был всегда прокурен дымом дорогих сигар и вообще везде пахло тугим, чисто немецким довольством. Детей у Майзеля не было, поэтому царил во всем самый педантичный порядок, как в хорошем музее, где строго преследуют каждую пылинку. На половине Амалии Карловны немецкая чистота достигала своего апогея, так что сама хозяйка походила на кошку, которая целые дни моется лапкой. Даже Родион Антоныч в своей раскрашенной хоромине никогда не мог достигнуть до этого идеала теплого, уютного житья, потому что жена была у него русская, и по всему дому вечно валялись какие-то грязные тряпицы, а пыль сметалась ленивой прислугой по углам. Поэтому Родион Антоныч имел полное основание завидовать Майзелю и даже иногда жалел, зачем он, Родион Антоныч, не русский немец.
Сегодня у Майзеля был все свой народ: Вершинин, Дымцевич, Буйко, Сарматов и доктор Кормилицын. Ждали Тетюева, который обещал завернуть вечерком.
— Это какой-то идиот… — резко отчеканивая слова, говорил сам Майзель, когда речь зашла о Прейне. — И для чего он тащит на Урал всякую сволочь, вроде Летучего и этого прощелыги Перекрестова!
— Вы напрасно так думаете, Николай Карлыч, — мягко возразил Вершинин, разваливаясь в кресле. — Прейн очень хорошо изучил привычки Евгения Константиныча и, вероятно, не ошибется в расчетах.
— Да и расчетов никаких нет, Демид Львович, а просто одна сплошная глупость… За кого он нас принимает, что нам приходится брататься со всякой швалью?
— Нет, а мне каково достается! — перебил Сарматов, хлопая себя по лысине. — Извольте-ка составить любительский спектакль буквально из ничего… Раиса Павловна помешалась на плечах Наташи Шестеркиной, а много ли сделаешь из одних плеч, когда она вся точно деревянная — ступить по-человечески не умеет.
— А Канунникова?
— Канунникова… Не спорю, господа, у Канунниковой и бюст, и талия, и прочее в надлежащем виде, но ее погубят ноги! Представьте себе настоящие гусиные лапы… Я даже сомневаюсь, нет ли у ней перепонок между пальцами.
— Чем труднее задача, тем приятнее победа, — заметил Вершинин. — Вам, Сарматов, как человеку, знакомому с небесными светилами, нетрудно уже примениться к земным планетам, около которых приходится теперь вам вращаться наперекор законам небесной механики.
— Тем более неприлично унывать артиллеристу, через которого переехало целое орудие… — прибавил Майзель.
— Нет, вы, господа, слишком легко относитесь к такому важному предмету, — защищался Сарматов. — Тем более что нам приходится вращаться около планет. Вот спросите хоть у доктора, он отлично знает, что анатомия всему голова… Кажется, пустяки плечи какие-нибудь или гусиная нога, а на деле далеко не пустяки. Не так ли, доктор?
— Я вас не понимаю, Сарматов, — отозвался доктор.
— Не понимаете? Пустяки, батенька, нечего прикидываться… Если бы я был на месте Прозорова, я прописал бы вам такую анатомию с физиологией вместе, что небо в овчинку бы показалось. Кто Луше подарил маринованную глисту?
— Совсем не маринованную… Зачем вы врете, Сарматов? Гликерия Витальевна интересовалась тогда сравнительной анатомией — ну, я ей и преподнес великолепный экземпляр taenia solnm. Анатомические препараты никогда не сохраняются в уксусе, а только в спирте.
— Виноват, а я думал — в уксусе. Что же вам сказала тогда Гликерия Витальевна, когда вы разодолжили ее своей глистой?
— Ах, отстаньте, пожалуйста!.. Прогнала, и только…
Все засмеялись. Чудак-доктор тоже смеялся вместе с другими своим жиденьким дребезжавшим смешком, точно в нем порвалась какая-то струна. «Идиот! — со злобой думал Майзель, закручивая ус. — Пожалуй, еще все разболтает…» Он пожалел, что пригласил сегодня доктора на общий совет.
— Отчего вы, Сарматов, не пригласили Лушу к себе в труппу? — спрашивал Вершинин. — Девочка ничего себе…
— Не приказано… Высшее начальство не согласно. Да и черт с ней совсем, собственно говоря. Раиса Павловна надула в уши девчонке, что она красавица, ну, натурально, та и уши развесила. Я лучше Анниньку заставлю в дивертисменте или в водевиле русские песни петь. Лихо отколет!..
— A mademoiselle Эмма будет у вас участвовать?
У Сарматова вертелось на кончике языка ядовитое словечко относительно m-lle Эммы, но он удержался из уважения к русско-немецкому происхождению хозяина.
— А Раиса Павловна что-нибудь устроит, — говорил кто-то. — Дайте срок, только бы ей увидаться с Прейном.
— Ну, это еще Андроны едут, — сомневался Майзель. — Для первого раза Нина Леонтьевна ее порядочно смазала… А та рассчитывала разыгрывать роль хозяйки! Ха-ха…
Вершинин засмеялся деланным смехом из уважения к хозяину, как и другие. Он, на месте Нины Леонтьевны, не сделал бы так, потому что еще кто знает, что впереди; для чего было бравировать с первого шага. В каждом деле Вершинин прежде всего помнил золотую пословицу, что своя рубашка к телу ближе, а здесь тем более: зверь был ранен, но он мог еще подняться на ноги. В жизни случаются превращения, каких не в состоянии предвидеть ни одна теория вероятностей. Старик Майзель, как рассерженный боров, теперь готов был лезть на стену, потому что Раиса Павловна смазала его несравненную Амальхен; но это еще плохое доказательство для того, чтобы другим надевать петлю на шею. В сущности, собравшаяся сегодня компания, за исключением доктора и Сарматова, представляла собой сборище людей, глубоко ненавидевших друг друга; все потихоньку тяготели к тому жирному куску, который мог сделаться свободным каждую минуту, в виде пятнадцати тысяч жалованья главного управляющего, не считая квартиры, готового содержания, безгрешных доходов и выдающегося почетного положения. Без сомнения, Горемыкин висел на волоске, и предоставлялось каждому решать мудреный вопрос, кто займет его место. Вершинин и Майзель получали официальных пять тысяч, остальные по три — это было очень немного в сравнении с пятнадцатью тысячами жалованья главного управляющего. Собственно, возможными кандидатами представлялись Вершинин и Майзель, а затем Тетюев. Но это не мешало и остальным думать про себя: чем он хуже других. Дымцевич, Буйко и даже Сарматов ничего не имели против пятнадцати тысяч. Вершинин славился как административная голова и как самый ловкий интриган; Тетюев — как юрист и делец, а Майзель — как крепкая солдатская рука в ежовой рукавице. Все эти особенности давали их владельцам некоторые надежды и вместе поднимали между ними ту черную кошку, из-за которой люди делаются тайными врагами не на живот, а на смерть. И вместе с тем они чувствовали себя бессильными поодиночке и должны были соединиться, чтобы добиться цели. Кто же из них будет тем счастливцем, на которого милостиво взглянет капризная фортуна?
Майзель поджидал Тетюева с особым нетерпением и начинал сердиться, что тот заставлял себя ждать. Но Тетюев, как назло, все не ехал, и Майзель, взорванный такой невнимательностью, решился без него приступить к делу.
— Господа, я надеюсь, что здесь собрался все свой народ и никто не вынесет сору из избы, — начал он, отчеканивая слова. — Я пригласил вас за тем, чтобы вместе обсудить, как нам поступить. Я уверен, что всем нам одинаково надоело плясать под дудку старой бабы. По крайней мере, для себя лично я считаю это позором. Против Платона Васильича, конечно, трудно что-нибудь сказать, как против человека, который заслуживает только нашего сожаления. Да и что можно требовать от калеки, который ничего не видит и не слышит?