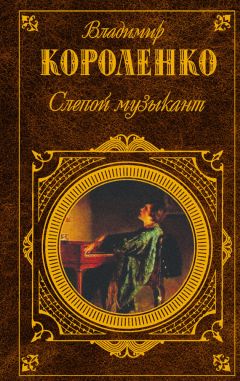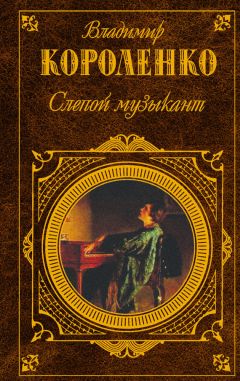Кузьма Петров-Водкин - Пространство Эвклида
Штук царил в официальной академии.
Лакированная темпера был его излюбленный способ письма. Свойство этого, очень эффектного на первый взгляд, приема, знакомого мне с моих первых иконописцев, имело в себе очень много случайного, очень резко сказывавшегося в работах учеников Штука. На любую матовую блеклую краску наложенный лак действовал настолько возбуждающе, что любая блеклость начинала звучать, яриться, создавать случайную глубину и бархатистость тону, может быть, и помимо желания автора. Затем лаковая пленка ожелтяла все белильные места и все цветистости и вызывала на холсте так называемую патину старинных от времени и лаков картин и давала всем таким работам один и тот же тон, путая мастеров в одну кучу.
Разгон цвета, дающий зрителю возможность легко воспринять краску как протяженность, не принимался в расчет этой школой. Цвет действовал здесь как непрерывное стаккато в музыке, и этим уничтожалась его мелодия.
Работы самого мастера при первом впечатлении поразили меня их неизбежностью формы, их скульптурностью. За это я соглашался даже с его глухими черными фонами, на которых выдвигались изображения. Плотно вписанная краска, без единого разрыва мазка, меня покоряла иконной суровостью и волей мастера немецких Афин, в них меня переставал интересовать цвет, подчиненный рельефу формы.
Дюрер — родоначальник немецкой изобразительности — вспомнился мне пред холстами Франца Штука. Но чем дольше беседовал я с его работами, тем больше впечатление окаменелой неподвижности они на меня производили: их барельеф, одноглазый, как фотографический снимок, мешал их жизненности: выйдешь на улицу и отдыхаешь и как будто отвинтишь глаз от какого-то однобокого, на сторону смотрения. А «Война» после этого мне просто казалась страшной и, конечно, совсем по другим, не военного порядка, соображениям.
Ученики Штука говорили, что их учитель возрождает искусство эллинов, — нет, позвольте, — я готов врукопашную постоять за Праксителя и Фидия в таком случае, — возражал я с моей горячностью.
В ателье Ленбаха в известные дни был открыт доступ посетителям. Тихо, полушепотом делились зрители впечатлениями от работ знаменитого портретиста.
С темных, в лессировку прописанных холстов смотрели на меня Бисмарк, Наполеон, взрослые и дети, внимательно и тонко сделанные.
Опять новое скобление по моей слабой установке на живопись! От прочной закупорки всех пор холста Штуком до едва наложенной сверху фактуры Ленбаха, до примитивной закраски Беклина трепался я в моих пробах у Ашбе. От тоски не спасало меня и то, что мои товарищи проделывали то же самое, разноголосица была не только во мне, но и в окружающих. Одно я понял здесь и понял надолго — это то, что предмет изолированный, «предмет вообще» не есть сюжет для живописи.
Мюнхен моих дней уже перевалил зенит своего расцвета. Еще годы будет отзываться он своим влиянием то здесь, то там в Европе, Макс Клингер поведет искаженной его линию, но высоты Беклина, Штука и Ленбаха долго будут незанятыми в немецкой живописи.
В стеклянном дворце мюнхенского «Сецессиона» увидел я новую французскую школу живописи в ряду других. Эта живопись и выставлена была в особых условиях: на полном свету, без всяких альковов и искусственного полумрака, совсем не так, как показывался Бугеро, Рошгросс и мюнхенцы. Сразу даже как-то стало неловко от бесстыдства обнаженных красок. Первое, что меня ошеломило в молодых французах, — это отсутствие классической светотени, — свет и тень у них теряли значение белого и черного, они сохраняли ту же спектральность краски, что и цвет.
Ярмарка какая-то, — недоумевал я, — вот они — барби-зонцы и понт-авенцы, о которых доносились к нам вести в Москву!
Долго ворочался и ежился я возле них, но, когда, обозленный, пошел я в соседние залы с классическим благополучием, мне и там стало неприятно от рельефно вылезающих на меня персонажей, никакого сношения с краской не имеющих.
Лучше пойду обратно, прислушаюсь, — ведь галдят же о чем-нибудь эти крикливые французы… Сосредоточился на натюрмортах. Внимательно, мазок за мазком, рассмотрел я один из них, изображавший фрукты, и вот что он мне рассказал.
Цвет в этом натюрморте не являлся только наружным обозначением «кожи» предмета, нет, каким-то фокусом мастера он шел из глубины яблока; низлежащие краски уводили мое внимание вовнутрь предметной массы, одновременно разъясняя и тыловую часть, скрытую от зрителя. Последний эффект заключался в фоне: он замечательно был увязан с предметом. У краев яблока развернулись предо мной события, которые в такой остроте, пожалуй, мне впервые представились. Яблоко, меняя цвет в своем абрисе, приводило к подвижности цвета и фон на каждом его сантиметре, и фрукт отрывался от фона, фон, по-разному реагирующий на его края, образовывал пространство, чтоб дать место улечься яблоку с его иллюзорной шаровидностью.
Здорово продумано и проработано на каждом сантиметре холста, — понял я, — но как же привести всю эту красочную разорванность к единству формы?
Зачем дробить синее и желтое при наличии перманентной зелени?
Зачем выдумывать серый тон разбелами кобальта и сиены, когда есть на палитре нуар-де-пешь?
Почему красное нужно перебросить в фон, а в синем изобразить обнаженного человека? Как избежать при такой школе случайного, физиологического привкуса к легкомысленного эстетства? И почему, несмотря на чрезвычайную оригинальность этой школы, в ней не чувствуется декадентства, навешивающего на природу хлам людских настроений?
Много полезных, но острых заноз в себе унес я с этой выставки.
Она поселила во мне разлад и с самим собой, и с Мюнхеном, и с московским училищем.
Окружающая жизнь действовала на меня не менее сильно, чем искусство, — не мог я ее не сопоставлять с Россией.
Отсюда чувствовалась необъятная моя, дремлющая Равнина. Чрезвычайными усилиями взрощены на ней крошечные цветники махрозых, привередливых растений.
От неизвестных корней путано и разноцветно утверждают они свои ценности на расстоянии человеческого глаза, а кругом — «буря мглою небо кроет» на тысячи верст.
Жутью веяло на меня сюда из России.
Что ж, я так был очарован здешним благополучием?
Нет. Потому и была жуть, что, примеряя на здешнюю ступень мою родину, не видел я ее дальнейшего пути.
Я представлял себе Хлыновск расчищенным, прихорошенным на манер Мюнхена, обвешанным историческими воспоминаниями, с ферейнами и с прекрасным пивом для отдыха.
На Соборной площади Петру Великому, а на Крестовоздвиженской Пушкину памятники поставлены. На базаре башня с часами воздвигнута, отбивающая мелодии часов и минут. Под ее аркадами симфонический оркестр ежедневно играет симфонии Бетховена.
Мною, уже знаменитым художником, расписана для родного городка гостиница Красотихи для съездов и ассамблей оцивилизованных хлыновцев… Ладно, заманчиво. Ну, а что сделать с цирюльником Чебурыкиным, — ведь он в это благодушие такого яда напустит, он так опошлит его, застыдит разбойный дух сограждан, что они и башню разнесут, и Петра Великого, и Пушкина, как перунов, в Волгу сбросят… Разнагишаются на сквозняке между Индией и Европой и снова заведут свое: «Эх, да, эх, бы…»
Нет, страшновато становилось в мыслях от таких прикидываний. Какой-то изюмины недохватит для моих сограждан от здешнего благополучия.
Приехал Володя в Мюнхен и остановился на несколько дней погостить у меня, чтоб после отдыха ехать дальше.
У него был завидный вид бродяги. На лбу его красовался только что затянувшийся шрам от последнего падения под Прагой; он насыщен был славянами — он знал разницу бытовую в словах: «Виходэк, находэк и заходэк». Он чувствовал себя проследовавшим завоеванными странами, освободившим из-под австрийского ига славянские племена. Он рассказывал, как радушно принимали его чехи, угощали русским чаем. Зная, что в Россия пьют чай с лимоном, они накрошили в холодную воду лимонов, засыпали туда чаю и вскипятили все это для него; братски выпил Володя, не поморщившись, этот настой…
Они говорили об… Они рассказывали, что… Словом, германская культура оказывалась, по изысканиям приятеля, целиком скифского происхождения. Да и самый Мюнхен он называл не иначе, как «Мнихов». Я увидел, что бреславльские турбины ослабили на нем свое действие, — да что тут турбины, когда он проехал горные реки, водопады, «орошенные славянской кровью и потом» (он так и сказал, мой бродяга). Но, действительно, от него пахло пейзажем, народами, племенами. Физическое состояние его было прекрасным, за эти дни он ел по три обеда, а на вечер я покупал ему два фунта колбасы и хлеба.
Несмотря на отличный для спанья диван, которым нас снабдили мои хозяева, он слышать не хотел о прекращении поездки, да и на меня смотрел как на погибшего в этом «штуковском» городе и в мещанском удобстве баварцев.