Лев Гинзбург - Избранное
Все газеты мира писали об этом процессе, на экранах показывали документальный фильм. Диктор говорил: "Пусть знают кристманы, герцы, кровавые палачи из зондеркоманды СС 10-а, что им не уйти от расплаты".
Конкретность в именах, в фактах была тогда чем-то неожиданным. Фашизм обычно связывали с именами главарей - Гитлера, Геббельса, Гиммлера. Теперь же вырисовывались лица конкретных исполнителей, участников, составлялся счет, с указанием, кому и за что придется по этому счету платить.
Этот процесс заставил Кристмана по-новому взглянуть на события. Привыкший к тому, что все, что он делает, одобрено, разрешено и предписано законом, он вдруг установил, что существует и другой закон, согласно которому его действия считаются уголовным преступлением, и что за этим "другим законом" стоит государственная власть - судебный аппарат, армия. Словом, он, Кристман, из боевого офицера теперь как бы превращался в уголовного преступника, и для него отныне речь шла не о том, как успешно вести войну, а о том, как скрыться от суда. Это унижало, лишало привычной собранности. Впервые его охватил новый, неведомый ему прежде страх - не страх смерти в бою, а страх перед судом. И, движимый этим новым страхом, подчиняясь логике преследуемого законом уголовного преступника, он лихорадочно искал спасения, заметал следы, нервничал.
В Томкином рассказе это выглядело так:
"...Я начала замечать, что он не в себе, стал рассеяннее, а вскоре пошли в команде разговоры о том, что Кристмана откомандировывают в Германию. И однажды - это было в конце августа - он пришел ко мне днем (первый раз он пришел днем) и сказал, что уезжает в Германию. Я ответила, что знаю, слыхала уже. Он потрепал меня по щеке и пожелал счастья.
А через какое-то время и вся команда уехала, и я с ними вместе, в Люблин, в Польшу, где стали мы называться не зондеркомандой, а Кавказской ротой СД..."
Дальнейшие похождения Томки - уже без Кристмана: люблинское СД, Майданек, Ченстохов, Германия, поход через Югославию в Италию, в надежде сдаться американцам, и вот - "в одном месте нас задержали итальянские партизаны, сняли с машин и отправили в лагерь. А потом - куда брести? Приехали советские представители, возвращаться надо..."
Томка сидит напротив меня, жалкая коллаборационистка, мусор войны... Папироска у нее погасла, и сама она погасшая, усталая - измотал ее этот рассказ. И вовсе она теперь не Томка, а Тамара Даниловна...
И она говорит: "Человек человеку - разница. Один человек может, жизни не щадя, держаться, а другой... Вот мальчишки дерутся, один искровавленный весь, а держится. А другой - его налупили, и он согнулся. У меня такое мнение, что я была из числа тех, кто согнулся. Это своеобразное человеческое поведение. А уж зацепился, сделал первый шаг - и возврата нет, и продолжаешь делать последующее..."
И, придвинув ко мне свои справки, она заключает просьбой: "Вы бы поглядели... Тут у меня все мое дело. Я думаю, нельзя ли мне выхлопотать восстановление стажа, так как ведь не по своей вине я находилась у них, а как бы пленная..."
Вот в связи с этой эпопеей, где все на пределе, где самое дно "бездны", мне и вспомнилось мое путешествие в ту страну, откуда пришел к нам однажды Кристман со своей зондеркомандой. Эта страна жила своей жизнью - ела, пила, веселилась, торговала, строила, вооружалась, проводила кинофестивали и шумные политические митинги, - но мало кто сгорал со стыда, мало кто думал о Кристмане, как если бы он не имел к этой стране ни малейшего отношения. А он был здесь, я знал это из отрывочных и неясных сообщений. Он был где-то здесь, то ли в Гамбурге, то ли в Мюнхене, и я испытывал чувство, какое бывает, когда сидишь в комнате, а тебе кажется, что присутствует еще кто-то, невидимый, спрятанный за портьерой...
После Мозыря Кристман был назначен начальником гестапо сначала в Клагенфурт, в Австрию, а затем в Германию, в Кобленц, где прослужил до самого конца войны, занимаясь будничными своими делами: ловил дезертиров, которых с каждым днем становилось все больше, выявлял саботажников и людей, уличенных в пораженческих настроениях. Это были пожилые рабочие, и чиновники, и молодые студенты, и солдатские вдовы, и вернувшиеся с фронта инвалиды войны.
Всех их доставляли в кабинет, где за длинным столом восседал маленький тонкогубый человек с большими мясистыми ушами. Они смотрели в его лицо и понимали, что это - конец, что это - гестапо, откуда нет выхода. И они досадовали на свою судьбу, потому что двенадцать лет беда обходила их стороной, а сейчас, когда приближалась развязка и вот-вот должен был развеяться двенадцатилетний кошмар, с ними случилось непоправимое несчастье.
К тому времени Германию с востока и с запада уже кромсали союзные армии, но там, куда они еще не дошли, фашистский быт сохранялся во всей своей повседневной незыблемости, с гестапо, с нацистскими газетами, в которых спокойно сообщалось о "росте национального дохода" и видах на урожай, с обычными радиопередачами: 19.30-19.45 - сводки с фронтов, 19.45-20.00 - статья доктора Геббельса, 20.15-22.00 - Моцарт, "Волшебная флейта"...
За пять дней до капитуляции Кобленца Кристман еще допрашивал арестованных, шагал по кабинету, резким голосом кричал: "Ты, свинья! Ты, безмозглая задница! Ты, отвратительный, смердящий ублюдок! В то время как весь народ, не щадя крови, приносит себя в жертву, чтобы спасти цивилизацию от большевиков, ты наносишь ему предательский удар в спину!.."
И он ставил на протоколе допроса условный знак - крест, обозначавший смерть.
ИЗ СТАТЬИ СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ "ТРУД" В
БОННЕ А. ГРИГОРЬЯНЦА...
...Штахус - самое бойкое место Мюнхена, центральная площадь города, куда вливается множество улиц. Круглый день она захлестнута толпами людей и потоками автомобилей. Над площадью высится светлый многоэтажный дом: Штахус, Штютценштрассе, 1. В одной из витрин - рекламный щит: "Вы выбрали правильно: маклерское бюро доктора Курта Кристмана. Земельные участки, дома, квартиры. Третий этаж".
Поднимаюсь на лифте, вхожу в приемную. За пишущими машинками две молодые дамы. Налево в открытую дверь видны столы служащих. Направо кабинет шефа. Солидная контора.
Секретарша докладывает. Вхожу к шефу. Навстречу спешит маленький человек с длинным лицом и мясистыми торчащими ушами...
- Не вы ли Курт Кристман, бывший начальник зондеркоманды СС 10-а?
- Нет, я такого не знаю.
- Вы были в России?
- Был, но солдатом...
Смотрит прямо в глаза, ни тени волнения, спокоен и уверен. В следующее мгновение засыпает меня вопросами: откуда я знаю Кристмана, какие имеются доказательства его виновности, сообщила ли мне что-нибудь о Кристмане прокуратура?
Шеф конторы пускается в воспоминания о России:
- Прекрасная страна, замечательный народ.
Выражает "сожаление", что был в СССР как оккупант. Переходит к своим коммерческим делам: все прекрасно, конъюнктура отличная. Население Мюнхена растет, спрос на жилье огромный.
Провожая меня до самого выхода, приглашает заходить.
- Да, но где же мне искать того Кристмана?
- Если мне что-нибудь станет известно, сообщу.
Покидаю контору процветающего дельца. Пересекаю Штахус и... иду в прокуратуру. Прошу, наконец, определенно сказать, какова сегодняшняя профессия Курта Кристмана, бывшего оберштурмбанфюрера СС.
- Маклер по недвижимому имуществу. Земельные участки, дома, квартиры...
СКРИПКИН
О Скрипкине мне рассказывали в Таганроге в первый мой приезд: "Это наш, таганрогский". Его хорошо в городе знали: фигура приметная - долговязый, с острыми плечами, глаза глубоко запавшие, голос сиплый. И фамилия прилипчивая, немного смешная - Скрипкин.
До войны он был футболистом, имел даже своих болельщиков, тогда говорили: "Скрипкин - этот забьет!", "Дает Скрипкин!" А потом, уже при немцах, увидели вдруг Скрипкина на улице с повязкой полицая и ахнули: вот так Скрипкин, центр-форвард!
Куда-то он вскоре с немцами исчез, и жена его все ездила зачем-то, говорили - к нему, барахло от него привозит с убитых. Объявился он только в 56-м году, когда вышла амнистия, - опять он был в Таганроге, Скрипкин. Только был он теперь не прежний футболист, а сильно ссутулился, ссохся, сипел и кашлял в платок.
Скрипкин поступил на хлебокомбинат, и всегда вокруг него какой-то шумок был. То его куда-то вызывают, то на работу к нему приходят люди в штатском, беседуют, записывают что-то; на судах он выступал несколько раз свидетелем...
Между тем в ходе свидетельских его показаний все ясней становилось, что был он не простым полицейским, хотя до самого ареста убеждал следователя: "Не такой я человек, чтоб скрывать. Было бы за мной что - сам бы раскололся. Отцепитесь вы от меня, ради бога".
Может быть, и стоило отцепиться от Скрипкина, да не отцепились: следователь настоял на своем - в 62-м году, 5 ноября, под праздник, явился к нему: "Ну, Валентин Михайлович, поехали..." Валентин Михайлович спорить не стал, грустно надел пальто, шапку, пошел, как во сне.
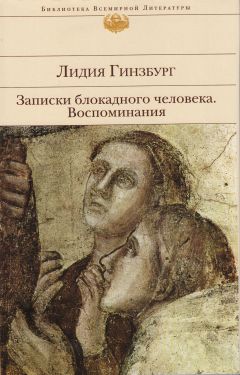



![Лидия Гинзбург - Агентство Пинкертона [Сборник]](/uploads/posts/books/13908/13908.jpg)