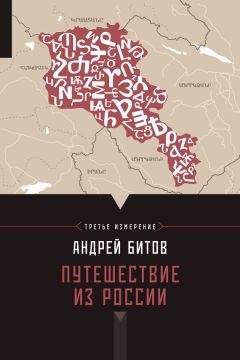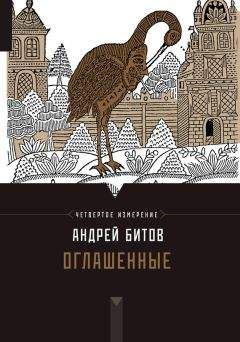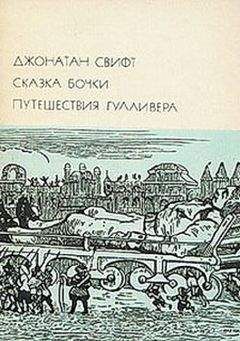Леонид Зуров - Иван-да-марья
— Да ведь и ты с Иришей не спишь, — говорил я и знал, что она думает о Ване, потому что и в Москве, где брат, тревожная ночь. Я босой подходил к дверям, прислушивался — да нет, все тихо, но уже не было в тишине прежнего, и я знал, что в казармах не спят и везде что-то сдвинулось.
Мобилизация шла точная и быстрая, и это я увидел не только на казарменном дворе, но и по тому, как вели лошадей.
— Да что там говорить, — махнув рукой, резко сказал растерянному Зазулину босой, лохматый и неистовый до порывистости в этот день Платошка. Он помогал выводить из конюшни лошадь, на которой отвез брата с Кирой на хутор после венчания, — что там твои газеты, что там толковать, выводи коня, ваше степенство, пришла беда, теперь прежней жизни конец.
И мы повели Зорьку туда, куда сводили лошадей, и радостно бежали босые ребята и девчонки, и я кричал сестре:
— Зоя, захвати хлеба и сахара, принеси.
На большой площади, у развалин ветхой крепостной стены стоял стол, за столом сидел офицер с бумагами, а вся площадь была заполнена лошадьми. Мужики и солдаты, уже в походных фуражках и рубахах, подводили коня за конем, их осматривал ветеринар, и наша Зорька определена была в кавалерию.
И здесь, и на казарменных дворах, не прекращаясь, шла работа, — только успевай бегать из одного места в другое: в казармах открыли двери магазинов, склады неприкосновенных запасов, бегали унтер-офицеры, и навсегда запомнилось, как явились запасные со своими деревенскими сундуками, взятые прямо с поля, с ребятами и бабами, бросившими полевую работу, с растерянными матерями и девчонками, и я помню у некоторых на домотканых пиджаках кресты за японскую войну, а на лицах растерянную покорность, ошеломленность, но удручения никакого не было, а вот только бабий плач такой, какого при проводах, как сказал потом Зазулину Платошка, с японской войны не слыхали. Маньчжурские-то могилы, Андрей Дмитрич, еще не забыты. Офицеры — а они к нам забежали опять — говорили, что ходили слухи о приготовлениях в Германии, о скоплении австрийских войск в Галиции.
— А от Вани, из Москвы, — повторяла мама, — что-то нет писем.
— Все они, поверьте, вернулись с юнкерами и теперь в Москве.
Уже выделили в полку брата запасной батальон, и он пополнялся призывными, второочередные полки приводили в боевую готовность — в штабе, несмотря на сонную до того жизнь, все было рассчитано не только по часам, но даже по минутам.
Одни говорили:
— Разойдется. Мобилизация еще не война.
— Ой ли, — отвечал, покачивая головою, Зазулин.
— Старшего брата Иришиного забрали, — сказала Зоя.
— А где же она?
— На вокзал убежала прощаться, в слезах.
Я запомнил навсегда лица, глаза, вокзал, народ полевой, засуху, лесные пожары, незаконченную еще полевую страду, женское горе…
Все так быстро пошло — как вихрь и вздох пронесся, просто дыхание у всех захватило, дрогнули сердца, и за несколько дней навсегда изменился весь мир. Уже через день сторожевой состав был готов, и приходящими запасными был наполнен город, а в деревнях перед спешной отправкой пьяно-распьяно уже было, бабы ревели, и ребята ехали на телегах и пели.
Германия, первой начав мобилизацию, предъявила России глубокой ночью — все совершалось по ночам — ультиматум, требуя в двенадцать часов демобилизации в России.
— Требуя, но со своей стороны не обещая нам ничего, — сказал Зазулин, — а уже австрийские орудия били по Сербии, — врасплох нас берут, потому что, мне сдается, на Западе заранее было решено и лишь преподнесено под видом неожиданности и торопливых крайностей, потому что так-то, шумом, и в путанице, и в замученной воде и начинаются злые дела.
Я помню вывешенные флаги — давно и тяжело собиравшаяся в Европе война наконец разразилась.
— Ах, Англия, Англия, — говорил Зазулин, — ну, у немцев руки развязаны, до сих пор ведь молчит.
И я никогда не забуду молебен на полковом плацу: эти ряды солдатские, что молились, взяв фуражки на руку, остриженные солдатские головы, загорелые лица после лагерей и маневров, все молились, и мы — мама, Зоя и жены офицеров — молились вместе с народом. Офицеры и солдаты крестились, а потом священник обходил полк, и унтер-офицер, как и в древности, нес серебряный сосуд с освященной водой, а священник широкими взмахами кропил стриженые солдатские головы. И зной, ни ветерка, душно от толпы.
— Где-то сейчас Ваня.
— Боже, как волнуется Кира, что-то она переживает, — говорила, задыхаясь, Зоя, когда войска уходили на вокзал с песнями.
Ах, как жалко, что брата нет в этих рядах, думал я, и Кира так и не увидит его полк, молебствия и вот этих лиц.
Я быстро шел, а потом мама и Зоя отстали, и я не шел уже, а бежал вместе с мальчишками рядом с уходившей на войну ротой брата, туча мальчишек горящими глазами их провожала. Шли по-походному, с песнями, с надетыми скатками, штыки искрились на солнце, а за солдатами едва поспешали женщины. Офицеры шли веселые, как на парад; оборачивались, любовались строем ротные, и каждый батальон пел свою песню. Я бежал и думал: ах, если бы и брат вел роту, если бы Кира видела, как уходит на войну его рота. Помню, знакомый унтер-офицер обронил орденскую колодку с крестами и медалями за японскую войну и не заметил, а я, когда рота прошла, нагнувшись, успел ее поднять, вернуться, и, нагнав роту, к зависти всех мальчишек, отдал ее унтер-офицеру, и тот принял, поблагодарил меня глазами, слова даже не сказав, но я был счастлив.
Весь город у вокзала, торопливая посадка, быстрые приказания.
— Ну, беда, Прасковья Васильевна, — сказал у вокзала Зазулин. Он держал в руке шляпу, так и не надел после молебна, — пришла большая беда. Ведь и из Москвы небось отправляют полки. С телеграфа сейчас передали только, манифестации на Красной площади, сотни тысяч горожан вышли на улицы. Говорили, что на следующий день после объявления Германией войны в Зимнем дворце был отслужен молебен, и французский посол, как представитель союзной с Россией державы, был единственным иностранцем, приглашенным присутствовать, а по окончании молебна один из священников прочитал высочайший манифест об объявлении войны, и государь сказал, что благословляет любимые им войска гвардии и Петербургского военного округа.
— Государь, — передавала дама, родственница командира Енисейского полка, — был расстроен, бросалась в глаза его бледность, зато князь чуть ли не приплясывал от радости, да там все ликовали.
— Что, простите, я недослышал.
— Николай Николаевич говорил гвардейским офицерам: ну, теперь мы немцам покажем. Всю жизнь он терпеть не мог немцев и давно говорил, — война не за горами, а у нас силы есть. Да и война эта, — продолжала она, — так в гвардии говорят, кончится через месяц. Война была неизбежна, и в конной гвардии настроение приподнятое, все жаждут боевых подвигов. Как хорошо, что мы в союзе с французами. Первый раз за всю военную историю России так отлично прошла мобилизация, и армия хорошо обеспечена, и порыв. — Она была горда, что все знала и все ее слышали.
— Гвардия ликует, — говорил красивый петербургский лицеист с маленькой головкой, — подумать только, не воевали с турецкой войны, наконец-то гвардейские офицеры получат боевые красные темляки. Я за войну.
— Почему же, я спрашиваю, молчит Англия?
— Ну, знаете, англичане самый медлительный в мире народ, никогда не торопятся, самые медленные и деловые люди на свете англичане. Я их знаю, — говорил гвардейский офицер, командир полка.
А тут солдаты, уже снявшие скатки, вкатывали на платформы патронные двуколки и кухни, грузили патроны, пулеметчики были с кривыми бебутами на поясах, как у турецких янычар.
— Мамочка, — говорила Зоя, — смотри-ка — Ириша с почтальоном там, она на вокзал все же пробилась.
А почтальона жандармы пропустили, потому что у него была телеграмма, адресованная командиру полка, рассыльный нашел нас и передал матери по ошибке две телеграммы.
— Это от барина, — говорила Ириша, а мама растерялась, и я отдал ему всю мелочь, какая у меня была в кармане, потому что мама забыла дома кошелек. Руки у мамы дрожали, она долго не могла найти в кармане юбки очки, потом нашла и прочитала, перекрестилась, передала телеграмму Зое, и мы вместе впились в наклеенные слова. Когда я прочел ее, то почувствовал гордость за брата, боль, и радость, и я был счастлив, что он идет на войну, — он написал маме, что подал рапорт и возвращается в полк.
— Я Ваню знаю. Он и не мог иначе поступить, — сказала мама.
— И я бы так сделал, — говорил я Зое.
— Зоечка, Кира теперь приедет к нам, — сказала мама.
— Вот это славно, — сказал командир полка, — подал рапорт об отчислении. Ну, значит, скоро встретимся.
И тут было разговоров, по какому пути его отправят и что произойдет, когда он приедет.
— Чуяло мое сердце, — говорила нам мама, — как только я узнала, что объявили войну, так первое, что сердце сказало, — вернется в полк.