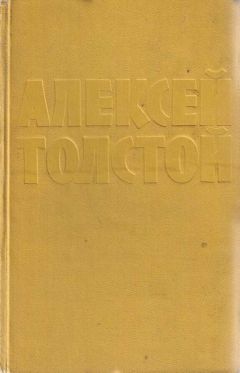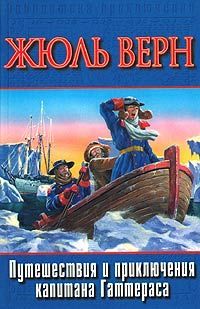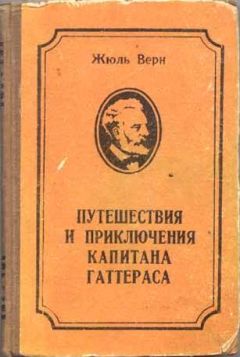Борис Зайцев - Золотой узор
Мы с Мусей резались отчаянно. Выигрывал Колгушин, Петр Петрович, блондин высокий, и тоже крепкий, с густым бобриком, в поддевке.
— А я бы, знаете, большевичков костыликом, костыликом…
Он улыбнулся, складывая кучкой керенки. Папочка подымал глазки на лице мясистом.
— А я слышал, что уже казаки идут с Дона, прямо на Москву.
— И мы тогда боьшевичков костыликом, костыликом, — улыбался Колгушие. — Я комиссару своему скажу: ты у меня спер, голубчик, все колеса от коляски, ну, так снимай штанишки сам… Да, да, так, так. Свеженькой кашки не желаешь ли.
Я мало слушала. Я находилась в нервном опьянении, пила вино, бессмысленно спускала свои керенки, и что-то прежнее, как я бывала с Александром Андреичем, в Москве, Париже, просыпалось. Подняв голову, глядела на Петра Степаныча. Любовь, любовь! Меня преследовало нынче это слово.
— Надоел, — шепнула Муся. — Что его, фокс-троту обучать? Играли мы до трех часов. Меня уламывали ночевать — время опасное, одной, и поздно… Но я не осталась. Муся в желтом полушубке, валенках, платочке, Петр Степаныч в башлыке, вышли провожать. Морозило. Валенки наши похрустывали. Петр Степаныч вывел из конюшни Петушка — даже под попоной тот заиндевел, ноги в белых лохмах, он пофыркивал.
— Это что за созвездие? Петр Степаныч, говорите же скорей, какой-там это Водолаз?
Орион дивно блестел в ветвях. Петр Степанычподтянул чересседельник, скромно Мусины познания поправил.
— А, все равно, пусть Орион. Так революция, Наталья Николаевна? Слышите, какая тишина, ночь, и собаки лают, звезды светят… и в такую ночь отлично могут нас поставить к стенке. Не находите? За грехи родителей, за ар-ристо-кратическое происхождение. Мне, впрочем, наплевать. Я с вами хочу прокатиться, а вы, Петр Степаныч, отправляйтесь-ка домой, вам ведь в другую сторону. И по дороге разыщите мне, пожалуйста, звезду, с названием Сердце Карла. Непременно! Так уж я хочу звезду.
Когда мы выехали вдвоем, мимо старинной церкви, сада нового за ней, обсаженного по канаве липами, она прижалась вдруг ко мне, при свете звезд глаза ее блеснули.
— Я его вовсе не люблю. А ведь любить надо? Где герй? Кого мне полюбить?
За садом я ее ссадила.
— Ну-ка, Муся, возвращайтесь вы домой.
— Вы не хотите разговаривать со мной. Вот вы все видели, любили, вы артистка, вам неинтересно… впрочем… глупости. Я напилась. Прощайте!
Она меня поцеловала, и в тулупчике своем, как девушка крестьянская, побежала назад.
Я ехала одна. Петушок, мохнатый, фыркающий. Резво семенил заиндевелыми ногами. Почему девченка задает мне все эти вопросы? Ах, что любовь, и где герой! А я-то знаю?
Мы проезжали деревушки, подымались в горки и спускались к мостикам в овражки. Было тихо. Звезды леднели золотистыми узорами. Страсти великие — знала ли я их? Герой, любовь, сжигающая душу? Маркел спит мирно, мирный, милый спутник мой. Трепет, грозность и величие… Да, звезды говорят о беспредельном, в пустыне смерть расхаживает, и кто гибнет в этот миг, чьей кровью орошается земля моя? И если смерть близка, понятна, может сторожить в любом лесочке, то любовь… О, неизведанное и безумное, где ты?
Когда совсем уж близко было к Галкину, виднелся сад наш, вдруг как будто бы я выпала из мира, дикий ужас… В черном, страшном небе предо мною заклубился красно-огненный фонтан, каскадами, тепло-кроваво-пурпурными. Ах, как он бил!
Петушок шел шагом. В поту как бы пред смертном я очутилась у ворот нашей усадьбы.
VII
Отцу пришла бумажка — явиться тотчас же. Он продал лошадь, из оставленных четырех в пользование — за это тоже угрожали карой – будто бы и арестуют.
Маркуша предлагал сам съездить. Но отец надел доху, шапку сребристого барашка, и молча, как на эшафот, уселся в сани желтые, запахнулся, закуривши папиросу велел Дмитрию бесстрастному на козлах трогать. Я смотрела из окна. И мне казалось, что отец не возвратится, что нельзя уж приучить и приручить его к самоновейшей жизни. Вошла я в кабинет. Беленький тулуп на кровати, на столе книжки инженерские, верстак с рубанками и наковальней, и пила садовая. На рогах оленьих старые патронташи, знакомые мне с детства, вытертый ягдташ с застрявшим в сетке перышком, коричнево-запекшеюся кровью — барские забавы прежних лет. А из овального портрета на меня взглянул и сам отец, в дни молодости, юношей годов шестидесятых. С ним рядом мать, с чудесными косами, в отложном воротничке. Ушедшее, былое! Да, это все закончено. Отца не существует. Мы — живем. И как-то мы пройдем?
Отец вернулся в сумерки, привез Петра Степаныча. Все обошлось прилично. Барышник тоже вызван был, отец возвратил деньги, получил лошадь клейменую. Он был спокоен, молчалив, но темен. Ушел к себе, покорно лег, укрывшись плэдом. Петр Степаныч попросил у меня том Островского — для ученического вечера. Пил робко чай с лимоном, перелистывал книгу в красном переплете с золотом — давнишний мне подарок от отца.
— Николай Петровича обидеть всетаки не могут. Не посмеют. Все ведь его знают.
Я играла, пела в слабо-освещенном зале. Слушатель с Островским и в очках, со звездами и астрономией, был мне приятен.
Я не окончила последней арии: шлепая туфлями, вошла Прасковья Петровна.
— С деревни Яшка пришел, там у Федор Матвеева собранье, сходка, что-ли ча, так дедушку зовут… Насчет оружия…
Она привычно почесала пальцем у себя в затылке.
— Возвернуть будто хотят… Да кто их разберет, мужиков-то…
Она имела вид скептический, как всегда недовольный.
Мне не хотелось подымать отца. С Петром Степанычем, мимо молочной, тропкою по молодому саду шли мы к Галкину. Ну вот, я отдаю визит. Изба. Взошли мы на крыльцо, я отворила в темноте дверь в сенцы, там, в такой же тьме, мы долго ощупью искали ручку двери внутренней. Наконец, дернул Петр Степаныч. Передо мной открылся четыреугольник. Я ступила вниз на земляной пол. В закопченной избе по лавкам человек пятнадцать мужиков. В краном углу иконы, небольшой стол с коптящей лампочкой. На нем, трофеями, в порядке, наши ружья, кольт… Какая чепуха! Зачем я тут, на что все это мне? Но, раз театр, так надо уж играть. Я поклонилась. Ответили мне вежливо, будто смущенно. В кислой мгле я разглядела у икон, под рушником и вербами засохшими Хряка со слипшимися прядями волос и красным носом, одутловатого Федора Матвеича, «богача» Силина с черною бородой. Под ноги толкнулся мне теленок. За большою печкой поросенок хрюкал. Баба выглянула из-за занавески, и платок поправила. Мальчишка шмыргнул носом, подзатыльник получил и снова шмыргнул, высунулся. Вот она, деревня. «Революционное крестьянство». Граждане мои, соседи. Грязь, тьма и вши, сопливые ребята, одни валенки на всю семью, коптилка, тараканы…
Я даже улыбнуться не могла. И не хотелось сесть, хоть мне и подали изъеденную табуретку.
— Так что вы теперь, Наталья Николаевна, вполне можете орудием распоряжаться, знашь-понимашь.
Федор Матвеич слегка волновался и подергивал на шее пестрый шарф.
— По постановлению обчества его вам возворачивают.
— Что же, возьму.
Вдвоем с Петром Степанычем мы подняли со стола «добро». Я видела десятки глаз, на нас направленных — смесь любопытства и смущения.
— Зачем же, всетаки, вы отбирали?
Хряк крякнул, и хотел что-то сказать, но перебил Федор Матвеич.
— Признаться говоря, одно недоразуиение.
Седой, пухлый, покойный плотник наш, Григорий мягкий, зевнул, перекрестил рукою рот.
— Прямо сказать, все молодежь… Сваляли дурака.
— Эх вы!
Я вышла. Несколько мальчишек выскочило с нами — будто щели все полны были мальчишками. Мы шли назад. В мартовском небе звезды вновь раскинулись узорами златыми. После духоты, избы, нелепых слов, нелепых действий, чуть морозный воздух так казался вкусен, так бессмертно небо.
— С ними трудно жить, — сказал мне Петр Степаныч. — Но их надо знать, и понимать.
И я кивнула молча.
— Сейчас они в угаре, в помутнении, как вся Россия, впрочем. Не надо быть к ним строгим.
Я это знала, но мне было грустно. О, бедная жизнь наша! Злоба и грызня, тьма, нищета!
— Скажите, вы нашли тогда для Муси Сердце Карла?
Я очень хорошо знаю эту звезду.
Он приостановился, прислонил ружье к стволу яблонки, посаженной моим отцом.
— Вон она, над нами. Меж Большой Медведицею и Драконом.
Я остановилась тоже, мы рассматривали небо. Из-за берез вдруг вылетел слепительно-золотой шар, плавно и бесшумно тек он над деревнею, оврагом, царственно стал удаляться к роще Рытовской.
— Метеор…
Мы замолчали. Холодок чуть тронул спину, волосы. Таинственный, залетный гость над жалким миром.
VIII
В Москву мы возвращаться не решались, вести были плохи, жить казалось невозможным. Но и здесь нехорошо. Как будто мы осаждены, на положении бесправном, неестественном. Иной раз раздражало меня даже, что и я, значит, помещица, и меня выгнать могут, взять заложницей. Я никакая не помещица! Я вольный человек, люблю весну, благоуханья, солнце… Я понимаю Мусю. Может быть хочу любви — великой, неосуществимой. И хочу искусства. Да, искусства… самое и время подходящее!