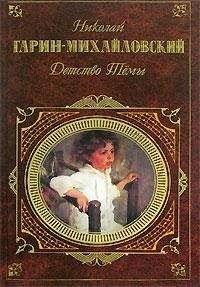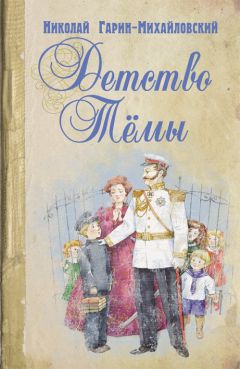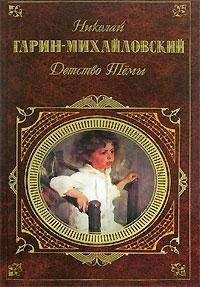Николай Гарин-Михайловский - Том 1. Детство Тёмы. Гимназисты
Тёма уже двадцатый раз рассеянно переходил от стола к этажерке, где на отдельной полке, в невозможном беспорядке, в контрасте с полкой сестры, валялась перепутанная, хаотическая куча книг и тетрадей.
Зина не выдержала и, молча, бросив работу, наблюдала за братом.
— Показать тебе, Тёма, как ты ходишь? — спросила она и, не дожидаясь, встала, вытянула шею, сделала бессмысленные глаза, открыла рот, опустила руки и с согнутыми коленками начала ходить бесцельно, толкаясь от одной стенки к другой.
Тёме решительно все равно было как ни тянуть время, лишь бы не заниматься, и он с удовольствием смотрел на сестру.
Мать, оторвавшись от чтения, строго прикрикнула на детей.
— Мама, — проговорила Зина, — я уже полстраницы написала.
— Моя тетрадь где-то затерялась, — в оправдание проговорил нараспев Тёма.
— Сама затерялась? — строго спросила мать, опуская книгу.
— Я ее вот здесь положил вчера, — ответил Тёма и при этом точно указал место на своей полке, куда именно он положил.
— Может быть, мне поискать тебе тетрадь?
Тёма сдвинул недовольно брови и уже сосредоточенно стал искать тетрадь, которую и вытащил наконец из перепутанной кучи.
— Я ее сам закинул, — проговорил он, улыбаясь.
На некоторое время воцарилось молчание.
Тёма погрузился в писание и с чувством начал выводить буквы, или, вернее, невозможные каракули.
Зина, вскинув глазами на брата, так и замерла в наблюдательной позе.
— Тёма, показать тебе, как ты пишешь?
Тёма с удовольствием оставил свое писание и, предвкушая наслаждение, уставился на сестру.
Зина, расставив локти как можно шире, совсем легла на стол, высунула на щеку язык, скосила глаза и застыла в такой позе.
— Неправда, — проговорил сомнительно Тёма.
— Мама, Тёма хорошо сидит, когда пишет?
— Отвратительно.
— Правда — похоже?
— Хуже даже.
— А, что? — торжествующе обратилась Зина к брату.
— А зато я быстрее тебя стихи учу, — ответил Тёма.
— И вовсе нет.
— Ну, давай пари: я только два раза прочитаю и уж буду знать на память.
— Вовсе не желаю.
— Зато через час и забудешь, — проговорила мать, — а Зина всю жизнь будет помнить. Надо учить так, как Зина.
— А, что? — обрадовалась Зина.
— Ну да, если б я все так учил, как ты, — проговорил самодовольно Тёма, помолчав, — я бы давно уж дураком был.
— Мама, слышишь, что он говорит?
— Это почему? — спросила мать.
— Это папа говорил.
— Кому говорил?
— Дяде Ване. Если б я, говорит, все учил, что надо, — я бы и вышел таким дураком, как ты.
— А дядя Ваня что ж сказал?
— А дядя Ваня рассмеялся и говорит: ты умный, оттого ты и генерал, а я не генерал и глупый… Нет, не так: ты генерал потому, что умный… Нет, не так…
— То-то — не так. Слушаешь, не понимаешь и выдергиваешь, что тебе нравится. И выйдешь недоучкой.
Опять водворилось молчание.
— Зато я играю лучше тебя, — проговорила Зина.
— Это бабья наука, — ответил пренебрежительно Тёма.
Зина озадаченно промолчала и принялась опять писать.
— А как же Кравченко? — вдруг спросила она, вспомнив своего учителя музыки. — Он, значит, баба?
— Баба, — ответил уверенно Тёма, — оттого у него и борода не растет.
— Мама, это правда? — спросила Зина.
— Глупости, — ответила мать. — Не видишь разве, что он смеется над тобою?
— У него и хвостик есть, вот такой маленький, — проговорил Тёма, показывая рукой размер хвоста.
— Мама?!
— Тёма, перестань глупости говорить.
Тёма смолк, но продолжал показывать руками размеры хвоста.
— Мама?!
— Тёма, что~ я сказала?
— Я ничего не говорю.
— Он показывает руками — какой хвостик.
— Еще одно слово — и я вас обоих в угол поставлю, — не глядя на Тёму, ответила мать.
Он безбоязненно опять показал Зине размеры хвоста. Зина мгновение подумала и в отместку высунула язык. Тёма в долгу не остался и начал делать ей гримасы. Зина отвечала тем же, и некоторое время они усердно старались перещеголять друг друга в этом искусстве. Тёма окончательно взял верх, скорчив такое лицо, что Зина не выдержала и фыркнула.
— Тёма, садись за маленький столик спиною к Зине и не смей вставать и поворачиваться, пока не кончишь уроков. Стыдись! Ленивый мальчик.
Водворилась тишина, и Тёма наконец благополучно кончил свои занятия. Последнюю латинскую фразу ему лень было учить, и он, отвечая матери и указывая, до каких пор ему было задано, показал пальцем до выпущенных им предлогов. Вообще проверка по латинскому языку была слаба; мать в нем знала меньше Тёмы и познакомилась с языком при помощи самого же Тёмы, с целью хоть как-нибудь проверять занятия своего ленивого сына. Но это приносило скорее вред, чем пользу, и Тёма, ради одного школьничества, часто морочил мать, смотря на нее как на подготовительную для себя школу по части надувания более опытных своих учителей.
Когда уроки кончились, Тёма, посмотрев на часы, с наслаждением подумал об остающемся до сна часе, совершенно свободном от всяких забот. Он заглянул в темную переднюю и, заметив там Еремея, топившего соломой печь, через ворох соломы перебрался к нему и, сев рядом с ним, стал, как и Еремей, смотреть в ярко горевшую печь. Все новая и новая солома быстро исчезала в огне. Тёма усердно помогал Еремею задвигать солому и с интересом ждал, когда потемневшая печь справится с новой порцией. Вот только искры да пепел сквозят через свежую охапку, и кажется, никогда она не загорится; вот как-то лениво вспыхнуло в одном, другом, третьем месте, и, охваченная вдруг вся сразу, солома с страшной, откуда-то взявшеюся силой огня уже рвется и исчезает бесследно в пожирающем ее пламени. Ярко и тепло до боли.
И опять оба, и Еремей и Тёма, ждут нового взрыва.
— Еремей, ты от брата получил письмо из деревни?
— Получил, — отвечает Еремей.
— Что он пишет?
— Пишет, что, слава богу, урожай был. Четвертую лошадь купили.
Еремей оживляется и рассказывает Тёме о земле, посеве, хозяйстве, которое совместно с ним ведет брат.
— Вот, к празднику, если бог даст, попрошусь у папы в деревню, — говорит Еремей.
— Как, на елке не будешь?
Еремей снисходительно улыбается и говорит:
— Там же ж у меня рыдня — сваты, дружки…
— Ты кого больше всех любишь?
— Я всех люблю.
И от сладкой мысли свидания у Еремея рисуются приятные сердцу картины: повязанные головы хохлуш, хустки, тяжелые чеботы, расписная хата, на столе вареники, галушки, горилка, а за столом разгоревшиеся, добродушные, веселые и «ледащие лыца» Грицко, Остапов, Дунь и Марусенек.
— Как ты думаешь, Еремей, мне что~ подарят на елку?
Еремей оставляет мечты и внимательно смотрит своим одним глазом в огонь:
— Мабуть, ружье?
— Настоящее?
— Настоящее, должно буть, — нерешительно говорит Еремей.
— Вот, Тёмочка, — говорит подошедшая и присевшая Таня, — вырастайте скорей да в офицеры поступайте… сабля сбоку, усики такие…
— Я не буду офицером, — равнодушно говорит Тёма, задумчиво смотря в огонь.
— Отчего не будете? Офицерам хорошо.
И Еремей соглашается, что офицерам хорошо.
— Енералом будете, як папа ваш.
— Мама не хочет, чтобы я был офицером.
— А вы попросите.
— Не хочу. Я ученым буду… как Томылин.
— Не люблю я их; я одного учителя видала, — такой некрасивый, худой… Военный лучше… усики.
— У меня тоже будут усы, — говорит Тёма и старается посмотреть на свою верхнюю губу.
Таня смотрит и целует его. Тёма недовольно отстраняется.
— Зачем ты целуешь?
— Скорее расти будут усы…
— Отчего скорее?
Таня молча смотрит лукаво на Еремея и улыбается. Тёма переводит глаза на Еремея, который тоже загадочно улыбается и весело глядит в печку.
— Еремей, отчего?
— Да так, она шуткует, — говорит Еремей и медленно встает, так как топка печки кончилась.
Тёма тоже встает и идет.
В столовой Зина, придвинув свечку, осторожно держит над ней сахар, который тает и желтыми прозрачными каплями падает на ложку, которую Зина держит другой рукой.
Наташа, Сережа и Аня внимательно следят за каждою каплей.
— И я, — говорит Тёма, бросаясь к сахарнице.
— Тёма, это для Наташи, у нее кашель, — протестует Зина.
— У меня тоже кашель, — отвечает Тёма и с сахаром и ложкой лезет на стол. Он усаживается с другой стороны свечи и делает то же, что Зина.
— Тёма, если ты только меня толкнешь, я отниму свечку… Это моя свечка.
— Не толкну, — говорит Тёма, весь поглощенный работой, с высунутым от усердия языком.
У Тёмы на ложку падают какие-то совсем черные, пережженные, с копотью, капли.