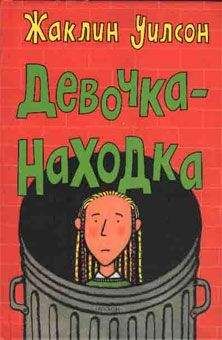Марк Слоним - Три любви Достоевского
{172} A y Достоевского голова шла кругом в Петербурге: он должен был заботиться о Паше, дерзком и назойливом юноше с черными напомаженными волосами и желтой кожей, он поселился с ним на одной квартире и Паша так вел его хозяйство, что денег никогда не хватало. На его руках была теперь и семья брата: вдова Михаила Эмилия Федоровна, с многочисленными детьми-подростками, считала, что Федор Михайлович должен заботиться обо всех них. К нему постоянно обращался за помощью другой его брат, Николай, страдавший острым алкоголизмом. К тому же Достоевский взял на себя все долги брата - и по журналу, и по фабрике, причем, впопыхах и в суматохе, выдавал векселя направо и налево, не разбирая претензий, и в кредиторах оказалось не мало таких, кому покойный Михаил уже раньше уплатил сполна.
Федору Михайловичу предстояло выплачивать эти долги в течение тринадцати лет, почти до самой смерти. С журналом он не мог один справиться, дела шли плохо, он болел и находился в подавленном состоянии. Он попробовал было написать Аполлинарии, чтобы она вернулась в Россию, но молодая девушка не выразила никакого желания стать его сестрой милосердия. Наоборот, у нее развивалось чувство досады, даже неприязни к Достоевскому. Она отрицала его право на учительство и на разговоры о христианских добродетелях. Она перестала верить в его "благородство". Зная его темперамент и воспламеняемость, она не могла поверить, что он не спит с другими женщинами, особенно после смерти жены, когда он остался один, - и в мысли об этом было что-то неприятное и грязное. Она вдруг прониклась ненавистью к тем самым его качествам снисходительности и мягкости, которые она так ценила, когда ей нужна была его помощь в истории с Сальвадором. Теперь она пишет:
"Чего я хочу от Сальвадора? Чтоб он сознался, {173} раскаялся, т. е. чтоб был Федором Михайловичем? Что же бы тогда было, между тем как теперь я имею минуты такого торжества, сознания силы". Слабость Достоевского и его раскаяние в тех поступках, которые он совершал в припадке страсти, очевидно, вызывали презрение Аполлинарии. Она возмущена его неспособностью быть решительным и отказаться от моральных и иных предрассудков. И в то же время она обвиняет его в том, что он заразил ее своей совестливостью, внушил сомнения, быть может, подточил ее силу. Как Гамлет, она готова была сказать: "нет ни добра, ни зла, только наша мысль о них".
"Мне говорят о Федоре Михайловиче, - пишет она в сентябре 1864 года, я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания".
Она думала не только о путешествии по Италии, но и о начале их связи в Петербурге, а может быть, и обо всей переписке, вызывавшей в ней раздражение и смутное сознание неправоты. Она прибавляет: "теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет мне напоминать оскорбления и страдания".
В этом она должна была, впрочем, обвинять и Сальвадора, и самое себя. Поиски ощущений, чувственная забава, новые мужчины занимают ее на очень краткий срок - а потом приходит отвращение и возмущение своей пустой жизнью. Она доходит до края с одним из своих поклонников, "лейб-медиком", и восклицает: "куда девалась моя смелость? Когда я вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Достоевского, он первый убил во мне веру. Но я хочу стряхнуть эту печаль".
Достоевский вселил в нее сомнение в возможности добиться радостной и полной жизни на тех путях беспощадного эгоизма, на которых торжествовал ее инстинкт власти. Но {174} отказаться от своих экспериментов, переродиться она уже не может, и она ездит по Франции, Швейцарии и Германии, меняет города и возлюбленных, и нигде никто и ничто не дает ей того бескомпромиссного, безраздельного счастья, о котором она всегда мечтала. "Покинет ли меня когда-нибудь гордость? Нет, не может быть, лучше умереть".
Но в то время, как она отбрасывала обыденное благополучие и тщетно пыталась развеять тоску в Версале, Париже, Спа и Цюрихе, Достоевский изнемогал под двойным бременем забот и одиночества, и искал самых фантастических выходов из положения. Зимою 1864 и в начале 1865 года в его отношении к Аполлинарии наступил кризис. Она была родным человеком, но она была далеко, и она его больше не любила. На нее нельзя было рассчитывать. Сперва он попробовал отвлечься, беря, что попадалось под руку. В его жизни опять заводятся какие-то случайные женщины, некоторые из них, как Марфа Браун, - авантюристки, другие и того хуже.
Затем он решил, что спасение его - в женитьбе на хорошей, чистой девушке. Случай знакомит его с красивой и талантливой 20-ти летней барышней из отличной дворянской семьи, Анной Корвин-Круковской, она очень подходит к роли спасительницы, и Достоевскому кажется, что он в нее влюблен. Он встречает ее в марте 1865 г., а в апреле готов просить ее руки. Но из этой затеи ничего не выходит, и в те самые месяцы, когда развертывается его невинная идиллия с Корвин-Круковской, он усиленно посещает Надежду Суслову, сестру Аполлинарии, и открыто поверяет ей свои сердечные невзгоды.
Надежда была только что исключена за левизну из Военно-Хирургической Академии и собиралась за границу. Она уехала в 1865 г. в Цюрих и через два года окончила тамошний университет, блестяще защитив диссертацию по физиологии сердца (Надежда Прокофьевна Суслова (1843-1918) окончила Цюрихский университет со степенью доктора медицины в 1869 и в том же году вышла замуж в Швейцарии за зоолога Эрисмана, впоследствии профессора Московского университета. О влиянии Сусловой на стремление русских женщин получить медицинское образование пишет В. Фигнер в своих воспоминаниях "Запечатленный труд".).
Впоследствии она {175} сделалась первой женщиной врачом в России и сыграла крупную роль в истории высшего женского образования. В семидесятых годах она вышла замуж за профессора зоологии Ф. Эрисмана и занималась медицинской практикой в Москве. Достоевский всегда восхищался высокими моральными и умственными качествами этой молоденькой студентки (в 1865 ей было 22 года). "Это редкая личность - писал он о ней, - благородная, честная, высокая". Ее ум и энергия поразили и Герцена, когда он познакомился с ней в Европе. С ней-то Достоевский и разговаривал весною 1865 года об ее сестре.
В это время Аполлинария покинула Париж и лечилась в Монпелье (не от женской ли болезни), где подружилась с Огаревой-Тучковой, гражданской женой Герцена. Достоевскому она посылала язвительные и надменные письма, применяя и в переписке метод, столь удававшийся ей с глазу на глаз: "ей было приятно, - замечает герой "Игрока", - выслушав и раздражив меня до боли, вдруг меня огорошить какой-нибудь выходкой величайшего презрения и невнимания".
Когда он спрашивал, что с ней такое, или пытался анализировать ее состояние, она попрекала его тем, что он был всегда охотником до чужих слез и страданий. После одной из таких выходок он не сдержался и высказал несколько горьких истин об ее "индивидуализме", вернее, бессердечии.
Когда Надежда приехала весною 1865 года в Цюрих, Аполлинария пожаловалась ей на Достоевского. Надежда тотчас же обратилась к нему, повторив все обвинения сестры. То, что Достоевский, в ответ на упреки, написал Надежде, является документом первостепенной важности. Прося Надежду прочесть копию письма к Аполлинарии (оно не сохранилось), он прибавляет:
"Из него вы ясно увидите разъяснение всех вопросов, которые вы задаете в вашем письме, т. е. "люблю {176} ли я лакомиться чужими страданиями и слезами и проч.". А также разъяснение насчет цинизма и грязи... В каждую тяжелую минуту к вам приезжал отдохнуть душой, а в последнее время исключительно только к вам одной и приходил, когда уж очень, бывало, наболит в сердце...
Аполлинария - большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от малейших обязанностей к людям. Она корит меня до сих пор тем, что я недостоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрерывно, сама же встречает меня в 1863 году в Париже фразой: "ты немножко опоздал приехать", т. е., что она полюбила другого, тогда как две недели тому назад еще горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю ее, а за эти четыре строки, которые она мне прислала в гостиницу с грубой фразой: "ты немножко опоздал приехать". Я многое бы мог написать про Рим, про наше житье с ней в Турине, в Неаполе, да зачем? Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее. Она не стоит такой любви.
Мне жаль ее, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья. Кто требует от другого всего, а сам избавляет себя от всех обязанностей, никогда не найдет счастья.
Может быть, письмо мое к ней, на которое она жалуется, написано раздражительно. Но оно не грубо. Она в нем считает грубостью то, что я осмелился говорить ей наперекор, осмелился высказать, как мне больно. Она меня третировала всегда свысока. Она обиделась тем, что и я захотел, наконец, заговорить, пожаловаться, противоречить ей. Она не допускает равенства в отношениях наших. В отношениях со мной в ней нет вовсе человечности. Ведь она знает, что я люблю ее до сих {177} пор. Зачем же она меня мучает? Не люби, но и не мучай".